
Тургенев (Альфонс Доде)
(Альфонс Доде (1840 - 1897), познакомившийся с Тургеневым в 1868 - 1870 годах, пользовался наряду с Мопассаном, Золя, братьями Гонкур неизменным расположением русского писателя.
Тургенев много сделал для популяризации творчества Доде, содействовал изданию его произведений в России, в Германии, рекомендовал немецкому критику Юлиану Шмидту новые книги писателя для отзывов и рецензий (в частности, роман "Фромон-старший и Рислер-младший"*, о котором Тургенев отзывался как об "очень и хорошей вещи").
Однако такого взыскательного художника, каким был Тургенев, далеко не все удовлетворяло в творчестве Доде. Он обращал внимание молодого писателя на неровности его стиля, неточность и поверхностность наблюдений. О романе-памфлете "Короли в изгнании" Тургенев писал II. В. Анненкову, увидевшему в этом произведении "сияющий талант": "Роман Доде мне менее понравился, нежели Вам, вероятно потому, что, по самой натуре сюжета, вместо типов являются одни портреты, чуть-чуть застланные прозрачной дымкой. А ведь интересны только типы...** Его претензии относились также и к роману "Набоб" - с ними, кстати сказать, Флобер был "вполне согласен".
В 1880 году Альфонс Доде написал мемуарный очерк "Тургенев в Париже" для нью-йоркского журнала "Century Magazine", но опубликован он был только после смерти писателя, в ноябре 1883 года. Русский перевод печатался в этом же году на страницах "Нового времени" (№ 2754 - 2755).
В 1887 году И. Я. Павловский в своих воспоминаниях о Тургеневе, вышедших на французском языке, привел крайне резкий отзыв о творчестве и нравственных качествах Доде, якобы слышанный им от самого писателя. Это глубоко оскорбило и уязвило Доде. Переиздавая в 1888 году воспоминания о Тургеневе в составе своей мемуарной книги "Тридцать лет в Париже", Доде написал иронический постскриптум, где упрекал своего друга в вероломстве.
К счастью, обидное для памяти Тургенева недоразумение, возникшее в результате бестактности мемуариста, было вскоре улажено благодаря вмешательству первого собирателя писем Тургенева, литератора И. Д. Гальперина-Каминского. Исследователь обратился с просьбой к друзьям писателя сообщить ему, говорил ли когда-нибудь Тургенев в беседах с ними что-либо компрометирующее Доде как художника и человека. Поэт Я. П. Полонский, близкий друг писателя, отвечал Гальперину-Каминскому: "Тургенев даже в самых откровенных беседах отзывался с большим уважением о своих друзьях, французских писателях, как-то о Флобере, Золя, Доде, Мопассане, Гонкуре и других, которых очень любил. Он гордился своими дружескими отношениями с знаменитыми французскими писателями и этого никогда не скрывал"***. Выразил свое мнение и Салтыков-Щедрин, который писал исследователю: "Я ничего не вижу обидного или вероломною по отношению к друзьям в оценке Тургеневым современной реалистической школы во Франции. Можно сохранять дружеские отношения и не приходить в восторг от всего в своих друзьях... Я никогда не замечал в характере Тургенева ни малейшего следа лицемерия"****. После появления работы И. Д. Гальперина Доде писал ему: "Письма Тургенева, собранные Вами и сопровождаемые Вашими умными и тонкими комментариями, изменили мои чувства к великому русскому писателю. Да, вы правы, Тургенев не был вероломным, он не двуличен..."*****
В 1893 году французский журналист Жюль Гюре опубликовал в газете "Figaro" свое интервью с Альфонсом Доде: "Я, - говорит Доде, - считал себя другом этого человека, я очень любил его... В течение многих лет Тургенев был моим любимым автором, его книги были удивительными, которые читаешь и перечитываешь беспрестанно. С тех пор мои предпочтения изменились, но мнение мое осталось прежнее"******.
Текст печатается по изданию: А. Доде. Собр. соч. в 7-ми томах, т. 7. М., 1965)
* (Тургенев, Письма, т. X, с. 323)
** (Там же, т. XII, кн. 2, с. 161)
*** (И. Д. Гальперин-Каминский, Письма И. С. Тургенева к г-же Полине Виардо и его французским друзьям. М., 1900, с. 256)
**** (Салтыков-Щедрин, т. XX, с. 390)
***** (И. Д. Гальперин-Каминский, назв. изд., с. 259)
****** ("Новое время", 1893, № 6346, 28 октября)
Это было лет десять - двенадцать назад у Густава Флобера на улице Мурильо. Маленькие нарядные комнаты, обитые полосатой тканью и выходившие окнами в парк Монсо, чинный аристократический парк, листва которого затеняла окна зелеными шторами. Но воскресеньям мы собирались в этом уютном, чудесном уголке одной и той же тесной компанией - пять-шесть человек. Для непрошеных гостей двери дома были закрыты.
Однажды в воскресенье, когда я по обыкновению пришел навестить престарелого мэтра и других моих друзей, Флобер встретил меня вопросом:
- Вы не знакомы с Тургеневым? Он здесь.
И, не дожидаясь ответа, ввел меня в гостиную. Когда я вошел, с дивана, где он сидел откинувшись, поднялся высокий старик с белоснежной бородой - он соскальзывал с груды подушек, словно огромная змея, наделенная нарой огромных удивленных глаз.
Мы французы, поразительно плохо знаем иностранную литературу. Наш ум - такой же домосед, как и мы сами, мы ненавидим путешествия и, попадая в чужую страну почти ничего не читаем и не осматриваем. Случайно я хорошо знал творчество Тургенева. Мне довелось как- то прочесть "Записки охотника", и они произвели на меня такое сильное впечатление, что я познакомился и с другими книгами русского писателя. Мы были связаны с ним еще до знакомства пашей общей любовью к полям, к перелескам, к природе, одинаковым пониманием ее превращений.
У большинства писателей есть только глаз, и он ограничивается тем, что живописует. Тургенев наделен и обонянием и слухом. Двери между его чувствами открыты. Он воспринимает деревенские запахи, глубину неба, журчание вод и без предвзятости сторонника того или иного литературного направления отдается многообразной музыке своих ощущений.
Но эта музыка доступна далеко не всем. Людям, оглушенным с детства ревом большого города, никогда не уловить ее, не услышать голосов, населяющих мнимую тишину леса, когда человек молчит, ничем не выдавая своего присутствия, и природа считает, что она наедине с собой. Вспомните стук весел, брошенных в пирогу на озере, описанный Фенимором Купером. Вы не видите пироги - вас отделяют от нее несколько миль, но от этого звука, долетевшего до вас издали по спящей воде, леса раскинулись еще шире, и вы вздрогнули от щемящего душу одиночества.
Русские степи пробудили чувства и сердце Тургенева. Человек становится лучше, когда он внимает природе; тот, кто любит ее, не может быть безучастен к людям. Вот чем объясняется сострадательная доброта, сквозящая в книгах славянского романиста, доброта печальная, как мужицкая песня. Это и есть тот человеческий вздох, о котором говорится в креольской песне, клапан, не дающий людям задохнуться: "Больно тебе - вздохни, не то боль задушит тебя". И этот много раз повторенный вздох роднит "Записки охотника" с "Хижиной дяди Тома" вопреки ее пафосу и воплям.
Все это я понимал еще до встречи с Тургеневым. Он уже давно восседал в кресле из слоновой кости на моем Олимпе наряду с другими моими богами. Но я был далек от мысли, что он в Париже, я даже не задумывался над тем, жив он или умер. Каково же было мое удивление, когда я столкнулся с ним лицом к лицу в парижской гостиной на четвертом этаже дома, выходившего окнами в парк Монсо!
Я с восторгом поведал Тургеневу о моем знакомстве с его книгами, выразил ему свое восхищение. Я сказал, что читал его в Сенарском лесу. Там я проник в душу писателя, и ласковые картины леса так тесно переплелись у меня с тургеневскими рассказами, что один из них навсегда остался в моей памяти окрашенным в розовый цвет вересковой пустоши, тронутой осенью.
Тургенев был крайне изумлен.
- Как! Вы читали мои книги?
И тут он заговорил о том, как плохо распространяются его книги, о том, что во Франции он неизвестен и Этцель издает его точно из милости. Слава писателя не вышла за пределы его родины. Он страдал при мысли, что не понят в стране, милой его сердцу, он говорил о своих неудачах с грустью, но без всякого раздражения. Напротив, наши беды 1870 года еще больше привязали его к Франции. Он уже не мог покинуть ее. Перед войной он проводил лето в Бадене, теперь решил больше туда не ездить и удовольствоваться Буживалем и берегами Сены.
В это воскресенье у Флобера никого больше не было, и наша беседа с Тургеневым затянулась. Я расспрашивал писателя о его методе работы, недоумевал, почему он сам не переводит своих книг; надо заметить, что он очень хорошо говорил по-французски, только чуть-чуть медленно, что объяснялось его требовательностью к себе.
Тургенев признался мне, что Академия и академический словарь повергают его в трепет. Он перелистывает дрожащими пальцами этот грозный словарь, точно кодекс словосочетаний, карающий любую вольность. После этих поисков он терзается сомнениями, которые убивают удачу и лишают его всякого желания дерзать. Мне помнится, что в очерке, написанном в то время, Тургенев не отважился сказать "бледные глаза" из страха перед Сорока бессмертными и перед тем, как они отнесутся к этому эпитету.
Я не впервые сталкивался с подобными страхами: они обуревали и моего друга Мистраля, тоже завороженного куполом Академии - этим бутафорским монументом, фигурирующим в круглой рамке на изданиях Дидо.
Я высказал по этому поводу Тургеневу все, что накипело у меня на душе, а именно: что французский язык не мертвый язык, на котором можно писать по словарю застывших выражений, расположенных в алфавитном порядке, как в "Градусе"1. Для меня язык - прекрасная, полноводная река, в которой трепещет и кипит жизнь. Река уносит по пути много мусора - люди все в нее кидают, - но не мешайте ей течь: она сумеет отобрать самое ценное.
1 (Имеется в виду французский словарь, составленный по образцу Словаря латинского языка и поэтических выражений ("Gradus al Parnassum" - "Ступень, ведущая на Парнас"))
Между тем день уже клонился к вечеру, и Тургенев сказал, что ему надо заехать за "дамами" на концерт Паделу. Я вышел вместе с ним. Меня очень обрадовало, что он любит музыку. Во Франции литераторы обычно ненавидят музыку: все заполонила живопись. Теофиль Готье, Сен-Виктор, Гюго, Банвилль, Гонкур, Золя, Леконт де Лиль - музыкофобы. Насколько мне известно, я первый посмел громко признаться в своем непонимании красок и в своей страстной любви к звукам. По всей вероятности, эта склонность объясняется моим южным темпераментом и близорукостью - одно чувство развилось у меня в ущерб другому. А Тургенев полюбил музыку в Париже, в среде, где он жил.
Тридцатилетняя дружба связывала его с г-жой Виардо, Виардо, великой певицей, Виардо-Гарсиа, сестрой Малибран. Одинокий холостяк, Тургенев долгие годы жил в этой семье, в особняке на улице Дуэ, № 50. "Дамы", которых он упомянул у Флобера, были не кто иные, как г-жа Виардо и ее дочери, которых он любил, как родных детей. В этом-то гостеприимном доме я вскоре навестил Тургенева.
Особняк был обставлен с утонченной роскошью и большой заботой о красоте и удобстве. Внизу в щель приоткрытой двери я разглядел картинную галерею. Звонкие девичьи голоса раздавались за стеной. Их сменяло страстное контральто Орфея, звуки которого неслись вслед за мной по лестнице.
На четвертом этаже - небольшое помещение, теплое, уютное, уставленное мягкою мебелью, похожее на будуар. Тургенев перенял художественные вкусы своих друзей: музыку он любил, как г-жа Виардо, а живопись - как ее муж.
Тургенев лежал на софе.
Я сел подле него, и мы возобновили недавний разговор.
Тургенев заинтересовался моими замечаниями и обещал принести в следующее воскресенье к Флоберу один из своих рассказов, чтобы мы перевели этот рассказ в его присутствии. Потом Тургенев заговорил о романе "Новь", который он собирался написать: это должна была быть мрачная картина, изображающая новые слои, поднявшиеся из глубин России, история несчастных "опростелых", которые по горестному недоразумению идут в народ. Но народ не понимает их, высмеивает, гонит прочь. Слушая писателя, я думал, что Россия и в самом деле "новь" - нетронутая земля, где каждый шаг оставляет след, земля, которую предстоит исследовать, возделать. У нас же, напротив, не сохранилось ни одной пустынной дороги, ни одной тропинки, по которой не прошли бы толпы людей. А уж если говорить о романе, то тень Бальзака встает в конце каждой нашей аллеи.
После этой беседы мы довольно часто виделись с Тургеневым. Из всех мгновений, проведенных вместе с ним, мне особенно запомнился один весенний день на улице Мурильо, сияющий, неповторимый. Разговор зашел о Гете, и Тургенев сказал нам: "Вы его не знаете". В следующее воскресенье он принес нам "Прометея" и "Сатира" - драматическую поэму, вольтерьянскую, кощунственную, бунтарскую. Парк Монсо радовал нас веселыми детскими голосами, ярким солнечным светом, свежестью политых цветов и деревьев, и мы четверо - Гонкур, Золя, Флобер и я, - взволнованные этой величественной импровизацией, внимали гению, переводившему гения. Этот человек, столь робкий, с пером в руке, стоял перед нами как дерзновенный поэт, и мы слышали не лживый перевод, который засушивает и мумифицирует, - сам Гете ожил и разговаривал с нами1.
1 (Чтение состоялось 21 марта а. ст. 1875 г. (см. с. 277 наст, изд.))
Тургенев бывал у меня часто. Я жил тогда в Маре, в бывшей резиденции Генриха II. Писателя забавлял необычный вид парадного двора и королевского дома с коньком на крыше и деревянными решетками на окнах, ныне заполоненного лавчонками игрушек, сельтерской воды и сластей. Однажды, когда он, огромный, под руку с Флобером, появился на пороге, сынишка сказал мне шепотом: "Это великаны!" Да, великаны, добрые великаны, наделенные умом и сердцем, соразмерными их росту. Этих гениальных людей связывала свойственная им обоим простодушная доброта. Виновницей же их союза была Жорж Санд. Бахвал, фрондер и донкихот, Флобер со своим громоподобным голосом, беспощадной наблюдательностью и повадками воина-нормандца был мужской половиной этого духовного брака. Но кто бы заподозрил, что второй колосс, с его мохнатыми бровями и огромным лбом, сродни тонкой, чуткой женщине, много раз описанной им в романах, русской женщине, нервной, томной, страстной, дремлющей, как восточная рабыня, трагичной, как готовая взбунтоваться сила? Среди великой людской неразберихи души попадают иной раз не в ту оболочку: мужская душа оказывается в женском теле, женская душа - в грубом обличье циклопа.
Как раз в это время нам пришла в голову мысль устраивать ежемесячные собрания друзей за вкусным обедом. Эти сборища получили названия "обедов Флобера" или "обедов освистанных авторов". В самом деле, мы все потер пели неудачу - Флобер со своим "Кандидатом", Золя - с "Бутоном розы", Гонкур - с "Анриеттой Марешаль", я с "Арлезианкой". К нашей компании хотел было примкнуть Дирарден, но он не был писателем, и мы его но приняли. Тургенев же дал нам слово, что его освистали в России, а так как Россия была далеко, то мы не стали проверять, правда ли это.
Что может быть восхитительнее дружеских обедов, Кох да сотрапезники ведут непринужденную, живую беседу, облокотясь на белую скатерть? Как люди многоопытные, мы все любили покушать. Количество блюд соответствовало числу темпераментов, количество кулинарных рецептов - числу наших родных мест. Флоберу требовалось нормандское масло и откормленные руанские утки; Эдмон де Гонкур, человек утонченный, склонный к экзотике, заказывал варенье из имбиря; Золя ел морских ежей и устриц; Тургенев лакомился икрой.
Да, нас нелегко было накормить, парижские рестораторы должны нас помнить. Мы часто меняли их. Мы бывали то у Адольфа и Пеле, за Оперой, то на площади Комической оперы, то у Вуазена, погреб которого примирял все требования и утолял все аппетиты.
Мы садились за стол в семь часов вечера, а в два часа ночи трапеза еще продолжалась. Флобер и Золя снимали пиджаки, Тургенев растягивался на диване. Мы выставляли за дверь гарсонов - предосторожность излишняя, так как голос Флобера разносился по всему зданию, - и беседовали о литературе. Обед постоянно совпадал с выходом одной из наших книг: с "Искушением святого Антония" и "Тремя повестями" Флобера1, с "Девкой Элизой" Гонкура, с "Аббатом Муре" Золя. Тургенев приносил "Живые мощи" и "Новь", я - "Фромопа" и "Джека". Мы разговаривали с открытой душой, без лести, без взаимных восторгов.
1Три повести Флобера: "Простое сердце", "Легенда о святом Юлиане Милостивом", "Иродиада" - вышли в 1877 г. в Париже отдельной книгой
Передо мной лежит письмо Тургенева, написанное старинным крупным почерком, почерком русского манускрипта, и я привожу его полностью, так как оно хорошо передает искренность наших отношений:1
1 (Тургенев послал это письмо Доде с отзывом о "Набобе" после некоторых колебаний, о чем сообщал Флоберу: "Я только что кончил "Набоба". Это книга, в которой кое-что выше уровня Доде, а кое-что значительно ниже. То, что основано на его наблюдениях, великолепно; то, что придумано, убого, бесцветно и даже не оригинально. Несмотря на это, удачные места книги столь удачны, что, кажется, я решусь написать ему правдивое письмо, которое одновременно доставит ему и удовольствие и огорчение. По, может быть, в конце концов я этого и не сделаю" (Тургенев, Письма, т. XII, кн. 1, с. 469 - 470). Флобер согласился с мнением Тургенева: "Относительно "Набоба" я думаю совершенно так же, как вы" (там же, с. 619))
"Понедельник, 24 декабря 1877 г.
Дорогой друг,
Если я до сих пор не высказал своего мнения о Вашей книге, то лишь потому, что мне хочется сделать это обстоятельно, не довольствуясь банальными фразами. Я откладываю все это до нашей встречи, которая, надеюсь, вскоре состоится, ибо Флобер возвращается на днях, и наши обеды возобновятся.
Ограничусь несколькими словами: "Набоб" - самый замечательный и вместе с тем самый неровный из всех написанных Вами романов. Если "Фромона и Рислера" представить в виде прямой_______, то "Набоба" следовало бы изобразить так: 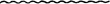 , причем верхушки этих зигзагов доступны только таланту перворазрядному.
, причем верхушки этих зигзагов доступны только таланту перворазрядному.
Простите мне это геометрическое объяснение.
У меня был очень сильный и длительный приступ подагры. Только вчера я впервые вышел на улицу: ноги не слушаются меня, словно мне девяносто лет. Очень боюсь, что я стал confirmed invalid*, как говорят англичане.
* (хроническим больным (англ.))
Прошу Вас засвидетельствовать мое глубочайшее почтение г-же Доде. Крепко жму Вашу руку.
Ваш Иван Тургенев".
Когда с обсуждением книг и повседневными заботами бывало покончено, беседа принимала более общий характер, мы обращались к вечным истинам, говорили о любви и о смерти.
Русский писатель молчал, вытянувшись на диване.
- А вы что скажете, Тургенев?
- О смерти? Я о ней не думаю. У нас никто ясно не представляет себе, что это такое, - она маячит вдалеке, окутанная... славянским туманом...
Эти слова красноречиво свидетельствовали о характере русского народа и о таланте Тургенева. Славянский туман покрывает все тургеневское творчество, смягчает его, придает ему трепет жизни, даже разговор писателя как бы тонет в этом тумане. Все, что он говорил нам, поражало вначале неопределенностью, неясностью, и вдруг облако рассеивалось, пронизанное лучом света, ярким словом. Он описывал нам Россию, не историческую, условную Россию Березины, а Россию колосящейся ржи и цветов, набравших силу под весенними ливнями, описывал и Малороссию с ее буйными травами и жужжанием пчел. А так как надо же где-нибудь поместить диковинные истории, которые мы слышим, вставить их в знакомую рамку, то русская жизнь рисовалась мне, по рассказам Тургенева, похожей на жизнь владельцев алжирского поместья, окруженного хижинами феллахов.
Тургенев говорил о русском крестьянине, о его пьянстве, о его дремлющем сознании, о том, что он совершенно не представляет себе, что такое свобода. Или же делился с нами более отрадными воспоминаниями, прикрывал уголок идиллии, связанный с молодой мельничихой, которую он встретил во время охоты и в которую был одно время влюблен.
- Что тебе подарить? - постоянно спрашивал он у мельничихи.
Однажды красавица, покраснев, ответила ему:
- Привези мне мыла из города. Я буду мыть им руки, чтобы они хорошо пахли, и тогда ты станешь их целовать, как у барыни.
После любви и смерти разговор заходил о болезнях, о теле, которое становится в тягость, как ядро на ноге у каторжника. То были печальные признания мужчин, которым перевалило за сорок! Меня еще не мучил ревматизм, и я посмеивался над моими друзьями и над страдавшим подагрой несчастным Тургеневым, который приходил на наши обеды, хромая. С тех пор я поубавил спеси.
Увы, смерть, о которой мы говорили постоянно, нагрянула и похитила у нас Флобера. Он был душой, связующим звеном наших обедов. После его кончины все изменилось: мы виделись изредка, нам не хватало мужества возобновить встречи, прерванные смертью.
Прошло несколько месяцев, и наконец Тургенев решил собрать нас. Место, предназначавшееся для Флобера, свято сохранялось за нашим столом, но нам так недоставало его громкого голоса и веселого смеха, обеды уже были не те. После этого я встречал русского романиста на вечерах г-жи Адан. Однажды он привел с собой великого князя Константина, который находился проездом в Париже и пожелал видеть местных знаменитостей. Это сборище за столом походило на оживший музей Тюссо. Тургенев был печален и болен. Несносная подагра! Она надолго укладывала писателя в постель, и он просил друзей навещать его.
Два месяца тому назад я видел Тургенева в последний раз. Дом был по-прежнему полон цветов, звонкие голоса по-прежнему звучали в нижнем этаже, мой друг по-прежнему лежал у себя на диване, но как он ослабел, как он изменился! Грудная жаба не давала ему покоя, а кроме того, он страдал от страшной раны, оставшейся после операции кисты. Тургенева не усыпляли, и он рассказал мне об операции, ясно сохранившейся в его памяти. Сначала он испытал такое ощущение, словно с него, как с яблока, снимали кожуру, затем пришла резкая боль - нож хирурга резал по живому мясу.
- Я анализировал свои страдания, мне хотелось рассказать о них за одним из наших обедов. Я подумал, что это может вас заинтересовать, - прибавил он.
Тургенев уже вставал с постели. Он спустился вместе со мной, чтобы проводить меня до парадной двери. Внизу мы зашли в картинную галерею, и он показал мне полотна русских художников: привал казаков, волнующееся море ржи, пейзажи живой России, такой, какою он ее описал.
Старик Виардо был нездоров. За стеной пела Гарсиа, и в этой любимой им атмосфере искусства Тургенев улыбался, прощаясь со мной.
Месяц спустя я узнал, что Виардо умер, а Тургенев при смерти. Мне трудно поверить в роковой исход его болезни. Для прекрасных, могучих талантов должна бы существовать отсрочка, чтобы они все успели сказать. Время и мягкий буживальский климат вернут нам Тургенева, но ему уже не бывать на наших задушевных собраниях, доставлявших ему такую радость!
Ах, обеды Флобера! Недавно мы возобновили их, но за столом нас было только трое.
В то время как я просматривал эту статью, появившуюся несколько лет тому назад, мне принесли книгу воспоминаний, на страницах которой Тургенев с того света всячески поносит меня:1 как писатель я ниже всякой критики, как человек - последний из людей. Моим друзьям это-де прекрасно известно, и они рассказывают обо мне бог знает что!.. О каких друзьях говорит Тургенев, и как они могли оставаться моими друзьями, если так хорошо меня знали? Да и кто принуждал добросердечного славянина к этой показной дружбе? Я вспоминаю его в моем доме, за моим столом: он мил, ласков, целует моих детей. У меня сохранились его письма, письма хорошие, дружеские. Так вот что скрывалось под этой доброй улыбкой!.. Боже мой! Какая странная штука жизнь и как прекрасно прекрасное греческое слово - eirôneia!*
1 (Во французском издании мемуаров И. Я. Павловского приведены следующие слова Тургенева: "Доде! Какое ничтожество! - заметил он... - Он всего лишь подражатель Диккенса... А как человек!.. Что за тип, что за тип! Хитрый южанин, притворщик, себе на уме, умеющий устраивать свои делишки. Его друзья знают ему цену и рассказывали мне о нем побасенки" ("Souvenirs Sur Tourguéneff par Isaak Pavlovsky", Paris, 1887, c. 73. Русский перевод отрывка - Л Н, т. 76, с. 501). Интересно, что в раннем русском варианте этих воспоминаний ("Русский курьер", 1884, № 137) отзыв Тургенева о Доде приведен в более мягкой форме, что свидетельствует о безусловной тенденциозности поздней французской "редакции" этой беседы. Золя, ознакомившись с воспоминаниями Павловского, однако, не склонен был обвинять Тургенева в лицемерии и неискренности. По поводу писем Тургенева, столь обидевших Доде и Гонкура... Золя сказал: "Его винили в том, что он нас судил слишком строго в своих письмах к русским друзьям. Действительно, он довольно ядовито выражался насчет Гонкура и Доде, он говорил, что ничего не понимает в большой изысканности стиля Гонкура, и находил искусство Доде немного узким... но надо же, однако, допустить, что писателю всегда позволительно, невзирая на симпатию его натуральных отношений, сохранять неприкосновенным свое интимное суждение..." ("Новое время", 1893, 28 октября). В полемике, вызванной мемуарами Павловского, принял участие Анатоль Франс, который опубликовал заметку "Инцидент Доде - Тургенев" ("Тетр", 1888, 12 февраля))
* (притворство (греч.))
|
ПОИСК:
|
© I-S-TURGENEV.RU, 2013-2020
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://i-s-turgenev.ru/ 'Иван Сергеевич Тургенев'
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://i-s-turgenev.ru/ 'Иван Сергеевич Тургенев'