
Часть I
Из Главы I
Находясь, можно сказать, в природной вражде с хронологией, я буду выставлять годы событий только для соблюдения известной последовательности, нимало не отвечая за точность указаний, в которых руководствуюсь более соображением, чем памятью. Так, например, я знаю, что ранее 1840 года, то есть до издания "Лирического пантеона", я не мог быть своим человеком у московского профессора словесности С. П. Шевырева.
Во время одной из наших с ним бесед в его гостиной слуга доложил о приезде посетителя, на имя которого я не обратил внимания.

Рис. 22. П. А. Кропоткин. Фотография
В комнату вошел высокого роста молодой человек, темнорусый, в модной тогда "листовской" прическе и в черном, доверху застегнутом, сюртуке. Так как появление его нисколько меня не интересовало, то в памяти моей не удержалось ни одного слова из их непродолжительной беседы; помню только, что молодой человек о чем-то просил профессора, и самое воспоминание об этой встрече, вероятно, совершенно изгладилось бы у меня из памяти, если бы но его уходе Степан Петрович не сказал: "Какой странный этот Тургенев: на днях он явился со своей поэмой "Параша", а сегодня хлопочет о получении кафедры философии при Московском университете". Никогда в позднейшее время мне не случалось спросить Тургенева, помнит ли он эту нашу первую встречу. Равным образом не могу утверждать, приходил ли Тургенев предварительно к Шевыреву с рукописью "Параша" или уже с напечатанной поэмой, что не могло быть раньше 1843 года. Первое предположение, по моим воспоминаниям, вероятнее1. Точно так же знаю наверное, что раньше 1848 года я не мог приехать в домовый отпуск из полка, где был утвержден в должности полкового адъютанта2, хотя и тут не могу вполне точно определить года, да и не считаю, с своей точки зрения, этого важным.
1 (Речь идет о первом сборнике стихов Фета "Лирический Пантеон", который вышел в 1840 г. В это время Фет еще был студентом Московского университета. Выход в свет "Лирического Пантеона" обратил на себя внимание университетского учителя поэта - профессора С. П. Шевырева. Начиная с 1841 г. стихи Фета стали публиковаться в "Москвитянине", одним из редакторов которого был С. П. Шевырев. Вряд ли эта первая встреча Тургенева, о которой пишет мемуарист, могла произойти раньше 1842 г., то есть времени, когда по возвращении из-за границы Тургенев собирался держать экзамен на магистра философии в Московском университете. В "Мемориале" под годом "1842" он записал: "Я хочу быть профессором философии!.. Экзамен на магистра". Как известно, Тургенев не был допущен к магистерским экзаменам в Московском университете. Возможно, что к С. П. Шевыреву он обратился с просьбой помочь ему сдать экзамен. В марте (26-го) Тургенев уезжает держать магистерские экзамены в Петербург, так что у Шевырева он мог быть не позднее 26 марта 1842 г. По всей вероятности, Тургенев приносил Шевыреву рукопись "Параши", так как поэма вышла лишь в апреле 1843 г.)
2 (После окончания университета (1844 г.) Фет, желая быстрее получить дворянство, поступил на военную службу. Он служил в Кирасирском орденском полку, который был расквартирован в Херсонской губернии (см. вступительную статью А. Е. Тархова в сб.: А. А. Фет. Соч. в 2-х томах, т. 1))
Дома меня встретил самый радушный прием. Хотя старик отец по принципу никому не высказывал своих одобрений, но бывшему эскадронному командиру, видимо, было приятно, что я занимаю в полку видное место.
В доме я застал меньшую нашу сестру Надю, недавно кончившую учение, - смолянку, совершенно неопытную, по наружности весьма интересную, пылкую и любознательную семнадцатилетнюю девушку. Хотя стихи мои около десяти лет уже были знакомы читателям хрестоматий1, Надя едва ли не одна из целого семейства знала о моем стихотворстве и искала со мною бесед. Невзирая на кратковременное пребывание дома, я, с своей стороны, старался поддерживать ее любознательные и эстетические стремления, конечно, тайком от отца, считавшего Державина великим поэтом, а Пушкина безнравственным писателем, и ревновавшего втайне свою любимую Надю ко всякого рода сторонним влияниям<...>
1 (Фет начал публиковать свои стихи во время учебы в университете и вскоре завоевал признание русских читателей; в студенческие годы им были созданы такие широко известные стихи, как "Облаком волнистым...", "Я пришел к тебе с приветом...", "На заре ты ее не буди..." и многие другие. Они заучивались наизусть, перелагались на музыку.)
В тогдашний приезд мой раз навсегда заведенный отцом порядок в доме мало изменился. Он сам по-прежнему жил во флигеле, а в доме помещалась только Надя, а я жил в другом флигеле. Переходя в 8 часов утра в красном бухарском халате и в черной шелковой шапочке на голове с крыльца своего флигеля на крыльцо дома, он требовал, чтобы Надя была уже у своего хозяйского места перед самоваром. Завтрак строго воспрещался, обед с часу передвинулся на два, чай подавался в 7 часов, а в 9 часов - ужин с новым супом и пятью новыми блюдами, совершенно как во время обеда. Надобно прибавить, что такой ужин подавался лишь другим, а сам отец довольствовался неизменной овсяной кашей со сливочным маслом. Дочерям не позволялось гулять без вуаля и без лакея даже в саду, а выезжать не иначе, как в дормезе Четверкой или шестериком с форейтором и с ливрейным лакеем. Бывшие в гостях сестры должны были возвращаться к ужину.
Однажды, за полчаса до прихода отца, прогремевшая по камням карета остановилась у крыльца и быстро вошедшая в столовую Надя расцеловалась со мной.
- Я привезла тебе от всех поклоны, и Ш...ы1 убедительно просят нас с тобой приехать в следующее воскресенье. Будет Тургенев, с которым я сегодня познакомилась. Он очень обрадовался, узнавши, что ты здесь. Он сказал: "Ваш брат - энтузиаст, а я жажду знакомства с подобными людьми".
1 (Скорее всего, имеется в виду семья В. А. Шеншина, родственника Фета, у которого бывал Тургенев. Но, возможно, речь идет и о Н. Н. Шеншине и его жене, где также часто можно было встретить Тургенева, особенно ценившего общество умной и топкой, "искренней", по его словам, Елизаветы Дмитриевны Шеншиной (см.: П. Матвеев. И. С. Тургенев (Из личных воспоминаний). - "Русская старина", 1903, № 12, с. 629 - 637))
Конечно, я очень обрадовался предстоящей мне встрече, так как давно восхищался стихами и прозой Тургенева.
- Мне сказывали, - прибавила Надя, - что он поневоле у себя в Спасском, так как ему воспрещен въезд в столицы. Папа ничего об этом не надо говорить, а то бог знает как он посмотрит на это знакомство; а в гости к Ш...м он нас отпустит охотно.
На следующее воскресенье мы уже застали Тургенева у Ш...х. Видевши его только мельком лет за пятнадцать тому назад, я, конечно бы, его не узнал. Несмотря на свежее и моложавое лицо, он за это время так поседел, что трудно было с точностью определить первоначальный цвет его волос. Мы встретились с самой искренней взаимной симпатией, которой со временем пришлось разрастись в задушевную приязнь.
Кроме обычных обитателей Волкова, было несколько сторонних гостей. Дамы окружали Тургенева и льнули к нему, как мухи к меду, так что до обеда нам не пришлось с ним серьезно поговорить. Зато после обеда он упросил меня прочесть ему на память несколько еще не напечатанных стихотворений и упрашивал побывать у него в Спасском. Оказалось, что мы оба ружейные охотники. По поводу тонких его указаний на отдельные стихи я, извиняясь, сказал, что восхищаюсь его чутьем. "Зачем же вы извиняетесь в выражении, которое я считаю величайшею для себя похвалой?"
При прощании я дал ему слово побывать в Спасском, но к себе по какому-то (невольно скажешь) чутью его не приглашал.
В условный день приходилось просить у отца лошадей, в которых он никогда не отказывал, и, кроме того, сказать, куда я еду. Тайком этого сделать было невозможно, а отец, подобно мне, был заклятый враг всякой лжи. Услыхав, что я еду в Спасское, он нахмурил брови и сказал: "Ох, напрасно ты заводишь это знакомство; ведь ему запрещен въезд в столицы, и он под надзором полиции. Куда как неприглядно"1.
1 ("В первое время ссылки визиты Ивану Сергеевичу соседними помещиками, - вспоминает М. П. С - ва, - делались как-то нерешительно, с каким-то смущением: приезжали к нему только самые храбрые, и то с оглядкою; но, когда первые пионеры побывали в Спасском без каких-либо для себя последствий, тогда и все другие соседи начали совершать набеги на Спасское безбоязненно" ("Новости и Биржевая газета", 27 сент. 1883))
Стоило большого труда убедить отца, что эти обстоятельства до меня не касаются и что порядочное общество тем не менее его не чуждается.
- Фить, фить! - проговорил отец, щелкая пальцами (это было его обычным обозначением легкомыслия), - а впрочем поезжай, уж если так тебе хочется.
Счастливый, я побежал и расцеловал своего друга Надю.
Воздержусь от описания Спасской усадьбы, хорошо знакомой публике и по описаниям, и по фотографиям; скажу только раз навсегда, что план дома представлял букву "глаголь", а флигель - как бы другую ножку буквы "пе", если бы верхняя часть "глаголя" соприкасалась с этой ножкой; но так как между домом и флигелем был перерыв, то флигель выходил единицей, подписанной под крышею "глаголя". Странно, что хотя со временем я узнал все расположение построек усадьбы Спасского, как свой собственный дом, я никак не в состоянии дать себе ясного отчета, где в первое мое посещение жил и принимал меня Тургенев, то есть в доме или во флигеле.
Конечно, меня не могло поразить окружавшее его множество лакеев, которых и у нас в доме было едва ли не дюжина; но у нас, как и у всех остальных, они появлялись в лакейских с утра и в доме не оставались; у Тургенева же я заметил в двух-трех соседних с приемною комнатках кровати и столики, у которых стояли длиннейшие чубуки от трубок со вспухнувшей табачною золой, хотя сам Тургенев никогда не курил. В этих-то комнатах, видимо, помещались лакеи, при которых, как я узнал впоследствии, состояли казачки для набивания трубок и других послуг.
Разговор наш принял исключительно литературный характер, и, чтобы воспользоваться замечаниями знатока, я захватил все, что у меня было под руками из моих литературных трудов. Новых стихотворений в то время у меня почти не было, но Тургенев не переставал восхищаться моими переводами од Горация, так что, но просьбе его, смотревшего в оригинал, я прочел ему почти все переведенные в то время две первые книги од. Вероятно, он успел уже стороною узнать о крайней скудости моего годового бюджета и потому восклицал:
- Продолжайте, продолжайте! Как скоро окончите оды, я сочту своим долгом и заслугой перед нашей словесностью напечатать ваш перевод. С вами ничего более нет? - спросил он.
- Есть небольшая комедия1.
1 (...небольшая комедия. - Текст ее остался неизвестным)
- Читайте, еще успеем до обеда.
Когда я кончил, Тургенев дружелюбно посмотрел мне в глаза и сказал:
- Не пишите ничего драматического. В вас этой жилки совершенно нет.
Сколько раз после того приходилось мне вспоминать это верное замечание Тургенева, и ныне, положа руку на сердце, я готов прибавить: ни драматической, ни эпической.
Когда нас позвали к обеду (это уже было несомненно в доме), Тургенев познакомил меня со своими сожителями: Тютчевыми - мужем и женою, и девицею - сестрою мадам Тютчевой. После обеда мы отправились пить кофе в гостиную, где стоял, столь часто упоминаемый Тургеневым, широкий, времен Империи, диван самосон, едва ли не единственная мебель в Спасском с пружинным тюфяком. Тургенев тотчас же лег на самосон и только изредка слабым и шепелявым фальцетом вставлял словцо в наш разговор, ведение которого с незнакомыми дамами вполне легло на меня. Конечно, я не помню подробностей разговора; но когда, желая угодить дамам, я заявил, что по своим духовным качествам русская женщина - первая в мире, Тургенев внезапно оживился и, спустив ноги с самосона, воскликнул:
- Вы тут сказали такое словечко, при котором я улежать покойно не мог.
И между нами поднялся шуточный спор, первый из многочисленных последующих наших с Тургеневым споров.
Когда я вернулся домой, отец благодушно посмотрел мне в глаза и сказал:
- Так как тебе уж очень хочется бывать у него, то мешать тебе в этом не стану. Но успокой ты меня в одном: никогда ему не пиши.
Я почтительно промолчал.
Отпуск мой кончился, и я должен был вернуться в полк, а с тем вместе наступил долговременный перерыв моих сношений с Тургеневым, во время которого я действительно ни в какой переписке с ним не состоял, так как случайная встреча не успела еще развиться в душевную приязнь<...>
Так как конные наши учения происходили только три раза в неделю, в течение одного часа, то свободного времени у меня оставалось много, и, по склонности к литературе, мне захотелось познакомиться с Некрасовым и Панаевым, тогдашними издателями "Современника"1.
1 (Первая встреча А. А. Фета с Некрасовым произошла но раньше 9/21 декабря 1853 г., когда Тургенев, также присутствовавший на этой встрече, впервые приехал в Петербург после спасской ссылки)
Когда я остановил извозчика, как мне говорили, на Владимирской, в Колокольном переулке, и стал громко спрашивать городового о их квартире, у саней моих остановилась ехавшая мне навстречу красивая коляска, и сидящий в ней в щегольской шляпе брюнет сказал мне: "Я - Панаев, позвольте узнать ваше имя?" Услыхав мое, он, видимо, обрадовался и, указавши дом, просил заехать к Некрасову и обождать с полчаса, так как к тому времени он сам вернется домой.
Встреча Некрасова была менее шумна, но не менее приветлива. "Мы обедаем в пять часов; приходите, пожалуйста, запросто; вы, между прочим, встретите здесь своих приятелей: Боткина и Тургенева".
Явившись к пяти часам, я был представлен хозяйке дома А. Я. Панаевой. Это была небольшого роста, не только безукоризненно красивая, но и привлекательная брюнетка. Ее любезность была не без оттенка кокетства. Ее темное платье отделялось от головы дорогими кружевами или гипюрами; в ушах у нее были крупные бриллианты, а бархатистый голосок звучал капризом избалованного мальчика. Она говорила, что дамское общество ее утомляет и что у нее в гостях одни мужчины.
Тут я, после долгих лет, встретил В. П. Боткина, по-прежнему обоюдоострого, то есть одинаково умевшего быть нестерпимо резким и елейно сладким. Познакомился с А. В. Дружининым, который стал меня расспрашивать о моих теперешних однополчанах Щ - х, с которыми он вместе воспитывался в Пажеском корпусе. С первого знакомства сошелся с веселым М. Н. Лонгиновым, сохранившим ко мне приязнь до своей смерти; с П. В. Анненковым, И. А. Гончаровым и повсегдатаем всех литературных обедов - М. А. Языковым, входившим в комнату шатаясь на своих кривых ножках и с неизменною улыбкою на лице.
Все это веселое общество, в ожидании обеда, усаживалось на мягкой мебели хозяйского кабинета, рассказывая друг другу забавные анекдоты. Хохот и шум на минуту только прерывались с появлением нового гостя. В остальное время нужно было близко подсесть к данной группе, чтобы расслушать слова.
- Господа, - сказал входящий в комнату хозяин, - четверть шестого, и если мы будем ждать Тургенева, то он заморит нас с голоду, и у хозяйки перейдет обед; она просит вас пожаловать к столу.
Все бросились к закуске, которой была оказана надлежащая честь. Тургеневу оставлен был прибор, и когда он во время супа вошел, извиняясь, ему подали бульон, так как он боялся всего жирного и пряного. Мы встретились с ним как старые знакомые, и он просил меня не забывать его на его постоянной квартире, на Большой Конюшенной, в доме Вебера.
С этого дня я стал чуть не ежедневно по утрам бывать у Тургенева, к которому питал фанатическое поклонение.
По природе ли или вследствие долгого пребывания за границей, Тургенев отличался наклонностью к порядку в окружающих вещах. Он не иначе садился писать самую простую записку, как окончательно прибравши бумаги на письменном столе. Между тем это же самое стремление к порядку не помогало ему в первое время нашего петербургского знакомства устроиться с холостым своим хозяйством. Правда, в то время и прислуга у него была другая: не было у него ни тонкого Захара, литературным мнением которого он далеко не пренебрегал1, ни неутомимого и точного Дмитрия Кирилловича, перешедшего позднее в услужение к В. П. Боткину, которого капризам умел угождать. А это великая рекомендация. Слуги эти были несомненными питомцами Спасского при матери Тургенева, тогда как бестолковый Иван - очевидный продукт позднейшей эмансипированной лакейской. Слуги прежних времен принимали молчаливо всякого рода замечания, тогда как крепостные либералы почитали нравственным долгом всякому оправданию предпосылать: "Помилуйте-с, помилуйте-с".
1 (Захар Федорович Балашов, неизменный камердинер Тургенева. По словам Д. Колбасина, часто встречавшегося с Тургеневым в пятидесятые годы, Захар "писал повести в часы досуга, но, по скромности своей, никому почитал их" ("Тургенев и круг "Современника", с. 119))
Вертелся ли сам Тургенев слишком усердно в этот период в вихре света, отбивал ли бестолковый Иван у него охоту просидеть лишний час дома, но случалось, что усердно созванный на обед круг гостей к пяти часам соберется, бывало, под темною аркою ворот у двери тургеневской квартиры.
- Кто это? - спрашивает один другого.
- Ах, это вы, Дружинин? - восклицает другой, узнавши по голосу вопрошающего.
- Добродушный, но рассеянный человек, - говорит укоризненно Боткин, - он просто забыл, что позвал всех обедать, и я ухожу. Что же звонить понапрасну? Явно, что ни Ивана Тургенева, ни Ивана-лакея нет на квартире.
Однажды, перед самым обедом, я забежал к Тургеневу поболтать с ним, пока он будет одеваться. В комнатах было действительно никак не более десяти градусов, которые переодевавшемуся Тургеневу были всех чувствительнее.
- Иван! - воскликнул он слезливым голосом, - ну как же мне тебя умолять? Сколько раз уже я слезно просил тебя сильнее топить в такие морозы.
- Помилуйте-с, помилуйте-с, - отвечал Иван.
- Да ведь я, - прервал его Тургенев, все выше забирающим фальцетом, - и не спорю с тобою. Ну ты умен, а я дурак. Но помилосердуй! Не до такой же степени я глуп, чтобы не мог разобрать, холодно мне или тепло.
Чтобы понять следующий небольшой случай с Иваном, не оставшийся без литературного следа, необходимо упомянуть одно литературное лицо, по временам появлявшееся в нашем кругу. Это был небольшого роста белокурый молодой немец Видерт, весьма удачно переводивший русские стихи и прозу на немецкий язык. Его переводы Кольцова пользовались в Германии заслуженным успехом. Появлялся он обыкновенно к вечернему чаю. Во время одного из таких посещений, на требование чаю со стороны Тургенева, Иван объявил, что чай весь вышел.
- Помилуй, любезный друг! - воскликнул изумленный Тургенев. - Как же мог так скоро выйти чай, когда я только третьего дня принес фунт?
- Помилуйте-с, помилуйте-с, - отвечал Иван, - стаканы малы.
Ожидавший в числе прочих чаю Некрасов не преминул воспроизвести эту сцену в следующем стихотворении;
Стол накрыт, подсвечник вытерт, Самовар давно кипит. Сладковатый немчик Видерт У Тургенева сидит. По запросу господина Отвечает невзначай Крепостной его детина, Что "у нас-де вышел чай". Содрогнулся переводчик, А Тургенев возопил: "Чаю нет! Каков молодчик! Не вчера ли я купил?" Замечание услышал И ответствовал Иван: "Чай у нас так скоро вышел Оттого, что мал стакан"1.
1 (Текст этого стихотворения Некрасова впервые опубликован Фетом в составе воспоминаний)
Так как я давно уже не писал стихов, то для журнальной печати запас их у меня оказался ничтожен; тем не менее Некрасову легко было пригласить меня, совершенного новичка в журнальном деле, по совету самого Тургенева, в исключительные сотрудники "Современника" с гонораром 25-ти рублей за каждое стихотворение.
Тургенев радовался окончанию перевода од Горация и сам вызвался проверить мой перевод вместе со мною из строки в строку. Споров и смеху по этому поводу у нас возникало немало. Между прочим в XXI оде книги первой он восстал против стиха:
На Крагель по весне.
Так как Горациева Крага изгнать было невозможно, то Тургенев привязался к слову по весне и спрашивал, что это такое?
Напрасно я ссылался на обычное в устах каждого русского выражение: по весне, по зиме - в смысле: в весеннюю или зимнюю пору; напрасно приводил я ему стих Крылова:
Он в море корабли отправил по весне.
Тургенев уверял, что ему хорошо известно, что краснокожие с перьями на голове и с поднятыми томагавками бегают по лесам Америки, восклицая: "На Краге по весне", причем он выговаривал весне так, как будто в конце стояло обратное "э".
Потому ли, что я стал окружен литературной атмосферой, или уж очень .скучал в моем одиноком номере гостиницы, - заехавший ко мне Иван Сергеевич застал меня с карандашом в руке. Я только что окончил стихотворение "Днепр в половодье".
Прослушавши стихи, он сказал:
- Я боялся, что талант ваш иссяк, но его жила еще могуче бьет в вас. Пишите и пишите!
Литературный кружок, к которому принадлежал и Д. В. Григорович, и мой университетский товарищ Я. П. Полонский, и генерал-майор Е. П. Ковалевский, путешественник по Малой Азии, Египту, Нубии я Абиссинии, - собирался не у одного Некрасова.
У Тургенева был прекрасный крепостной повар, купленный им за тысячу рублей1. Приглашая но временам приятелей обедать, Тургенев объявил, что нс может принять более одиннадцати человек, так как столового сервиза у него только дюжина. В такие дни обед обыкновенно заказывал Боткин, и когда затем какой-либо соус выходил особенно тонок и вкусен, Тургенев спрашивал Боткина:
1 (Речь идет о поваре Степане, известном своим кулинарным мастерством. Степан был очень привязан к Тургеневу, даже отказался от предложенной ему вольной)
- А что ты скажешь об этом соусе?
- Надо, - отвечал Боткин, - непременно позвать повара: я буду плакать у него на жилетке.
Однажды Тургенев объявил мне, что Краевский желает со мною познакомиться, и мы отправились в условленный день к нему.
После первых слов привета Андрей Александрович стал просить у меня стихов для "Отечеств, записок", в которых я еще во времена Белинского печатал свои стихотворения. Он порицал уловку Некрасова, заманившего меня в постоянное сотрудничество. "Это уж какая-то лавочка в литературе", - говорил он.
Хотя я и разделял воззрение Краевского, но считал неловким нарушать возникшие между мною и "Современником" отношения. Вернувшись от Краевского, я высказал Тургеневу свои сомнения, но он, посоветовавший мне согласиться на предложение Некрасова, стал убеждать меня, что это нимало не помешает дать что-либо и Краевскому. К счастью, новых стихотворений у меня не оказалось, но от скуки одиночества я написал прозою небольшой рассказ "Калепик" и отдал его в "Отечеств, записки"1. Появившееся на страницах журнала имя мое воздвигло в Некрасове бурю негодования; он сказал, что предоставляет себе право печатать мои стихотворения не подряд, а по выбору, в ущерб моему гонорару<...>
1 (Рассказ "Каленик" был напечатан в "Отечественных записках", 1854, т. 93; см.: А. А. Фет., Соч. в 2-х томах, т. 2)
Обеды у Панаева и Тургенева повторялись с обычным шумом и веселостью, не без примеси весьма крупной аттической соли и некоторого злорадства со стороны всегда мягкого и любезного Тургенева. В веселую минуту он сам повторял свои эпиграммы, острие которых обращено было даже на его друзей, например, Кетчера и Анненкова.
Про Анненкова, в то время весьма полного, экономного и охотника покушать, Тургенев не раз, возбуждая общее веселье, повторял эпиграмму, из которой помню только последние два стиха:
Чужим наполненным вином Виляет острым животом.
И когда, бывало, Гончаров и Анненков первые подступали к муравленому горшку со свежею икрой от Елисеева, Тургенев вопил:
- Господа, не забудьте, что вы не одни здесь.
Нередко Дружинин и Лонгинов читали свои юмористические, превосходными стихами написанные, карикатурные поэмы1. Забавнее всего, что в одной из таких поэм у Лонгинова в самом смешном и жалком виде человек, пробирающийся утром по петербургским улицам, был списан с Боткина. Всем хорошо был известен стих: "То Боткин был". А между тем сам Боткин пуще других хохотал над этим стихом, в котором при нем Лонгинов подставлял другое имя.
1 (По всей вероятности, речь идет о рукописном альбоме "Чернокнижие", предназначавшемся А. В. Дружининым для "Стихов и прозы нелепого содержания")
В последнее время Тургенев стал настаивать на новом собрании моих стихотворений, так как издание пятидесятого года почти все разошлось. Он сам брался за редакцию, приглашая к себе в сотрудники весь литературный ареопаг. Конечно, мне оставалось только благодарить<...>
Около этого времени у меня завязалась оживленная переписка с Тургеневым. Он писал мне:1
1 (Приведено письмо Тургенева от 8/20 февраля - 6/18 апреля 1855 г. (Тургенев, Письма, т. II, с. 268 - 269))
"Некрасов, Панаев, Дружинин, Анненков, Гончаров - словом, весь наш дружеский кружок вам усердно кланяется. А так как вы пишете о значительном улучшении ваших финансов, чему я сердечно радуюсь, то мы предлагаем поручить нам новое издание ваших стихотворений, которые заслуживают самой ревностной очистки и красивого издания, для того чтобы им лежать на столике всякой прелестной женщины. Что вы мне пишете о Гейне? Вы выше Гейне, потому что шире и свободнее его".

Рис. 23. Д. В. Григорович. Литография
Конечно, я усердно благодарил кружок, и дело в руках его под председательством Тургенева закипело. Почти каждую неделю стали приходить ко мне письма с подчеркнутыми стихами и требованиями их исправлений. Там, где я не согласен был с желаемыми исправлениями, я ревностно отстаивал свой текст, но по пословице: "Один в поле не воин" - вынужден был соглашаться с большинством, и издание из-под редакции Тургенева вышло настолько же очищенным, насколько и изувеченным. Досаднее и смешнее всего была долгая переписка по поводу отмены стиха:
На суку извилистом и чудном.
Очень понятно, что, высланные мною скрепя сердце, три-четыре варианта оказались непригодными, и наконец Тургенев писал: "Не мучьтесь более над стихом "На суку извилистом и чудном": Дружинин растолковал нам, что фантастическая жар-птица и на плафоне, и в стихах может сидеть только на извилистом и чудном суку рококо. И мы согласились, что этого стиха трогать не надо"<...>
Три-четыре дня моего пребывания на этот раз в Петербурге я проводил преимущественно в литературном кругу. Тургенева я нашел уже на новой и более удобной квартире в том же доме Вебера, и слугою у него был уже не Иван, а известный всему литературному кругу Захар. Тургенев вставал и пил чай (по-петербургски) весьма рано, и в короткий мой приезд я ежедневно приходил к нему к десяти часам потолковать на просторе. На другой день, когда Захар отворил мне переднюю, я в углу заметил полусаблю с анненской лентой.
- Что это за полусабля? - спросил я, направляясь в дверь гостиной.
- Сюда пожалуйте, - вполголоса сказал Захар, указывая налево в коридор. - Это полусабля графа Толстого, и они у нас в гостиной ночуют. А Иван Сергеевич в кабинете чай кушают.
В продолжение часа, проведенного мною у Тургенева, мы говорили вполголоса из боязни разбудить спящего за Дверью графа.
- Бот все время гак, - говорил с усмешкой Тургенев. - Вернулся из Севастополя с батареи, остановился у меня и пустился во все тяжкие. Кутежи, цыгане и карты во всю ночь: а затем до двух часов спит как убитый. Старался удерживать его, но теперь махнул рукою1.
1 (19 ноября/1 декабря 1855 г. Л. Н. Толстой приехал в Петербург курьером из-под Севастополя и остановился по рекомендации М. Н. и Н. Н. Толстых на квартире у Тургенева. Это и была их первая встреча. Тургенев жил тогда уже не в доме Вебера, как указывает Фет, а в доме Степанова у Аничкова моста (теперь дом № 38). Вскоре по приезде Толстого 8/20 декабря 1855 г. Тургенев писал М. Н. Толстой: "Приезд Вашего брата<...> выбил меня на некоторое время из колеи<...> Много разных неистовств успел он наделать с тех пор, как приехал - в карты, однако, не играл - и пьянству не предавался" (Тургенев, Письма, т. II, с. 325 - 326). Толстой уехал из Петербурга 1/13 января 1856 г.)
В этот же приезд мы и познакомились с Толстым, но знакомство это было совершенно формальное, так как я в то время еще не читал ни одной его строки и даже не слыхал о нем как о литературном имени, хотя Тургенев толковал о его рассказах из детства. Но с первой минуты я заметил в молодом Толстом невольную оппозицию всему общепринятому в области суждений. В это короткое время я только однажды видел его у Некрасова вечером в нашем холостом литературном кругу и был свидетелем того отчаяния, до которого доходил кипятящийся и задыхающийся от спора Тургенев на видимо сдержанные, но тем более язвительные возражения Толстого.
- Я не могу признать, - говорил Толстой, - чтобы высказанное вами было вашими убеждениями. Я стою с кинжалом или саблею в дверях и говорю: "Пока я жив, никто сюда не войдет". Вот это убеждение. А вы друг от друга стараетесь скрывать сущность ваших мыслей и называете это убеждением.
- Зачем же вы к нам ходите? - задыхаясь и голосом, переходящим в тонкий фальцет (при горячих спорах это постоянно бывало), говорил Тургенев. - Здесь не ваше знамя! Ступайте к княгине Б - й-Б - й!
- Зачем мне спрашивать у вас, куда мне ходить! и праздные разговоры ни от каких моих приходов не превратятся в убеждения.
Припоминая теперь это едва ли не единственное столкновение Толстого с Тургеневым, которому я в то время был свидетелем, не могу не сказать, что хотя я понимал, что дело идет о политических убеждениях, но вопрос этот так мало интересовал меня, что я не старался вникнуть в его содержание. Скажу более. По всему, слышанному мною в нашем кружке, полагаю, что Толстой был прав и что если бы люди, тяготившиеся современными порядками, были принуждены высказать свой идеал, то были бы в величайшем затруднении формулировать свои желания.
Кто из нас в те времена не знал веселого собеседника, товарища всяческих проказ и мастера рассказать смешной анекдот, - Дмитрия Васильевича Григоровича, славившегося своими повестями и романами?
Вот что между прочим передавал мне Григорович о столкновениях Толстого с Тургеневым на той же квартире Некрасова1. "Голубчик, голубчик, - говорил, захлебываясь и со слезами смеха на глазах, Григорович, гладя меня по плечу. - Вы себе представить не можете, какие тут были сцены. Ах, боже мой! Тургенев пищит, пищит, зажмет рукою горло и с глазами умирающей газели прошепчет: "Не могу больше! у меня бронхит!" и громадными шагами начинает ходить вдоль трех комнат. "Бронхит, - ворчит Толстой вослед, - бронхит - воображаемая болезнь. Бронхит это металл!" Конечно, у хозяина - Некрасова - душа замирает: он боится упустить и Тургенева, и Толстого, в котором чует капитальную опору "Современника", и приходится лавировать. Мы все взволнованы, не знаем, что говорить. Толстой в средней проходной комнате лежит на сафьяновом диване и дуется, а Тургенев, раздвинув полы своего короткого пиджака, с заложенными в карманы руками, продолжает ходить взад и вперед по всем трем комнатам. В предупреждение катастрофы подхожу к дивану и говорю: "Голубчик Толстой, не волнуйтесь! Вы не знаете, как он вас ценит и любит!"
1 (См. об этом в воспоминаниях Д. В. Григоровича, наст, т., с. 230 - 231)
- Я не позволю ему, - говорит с раздувающимися ноздрями Толстой, - нечего делать мне назло! Это вот он нарочно теперь ходит взад и вперед мимо меня и виляет своими демократическими ляжками!
Из Главы V
Тургенев писал мне, что, по мнению всех литературных друзей, новый сборник моих стихотворений получил окончательно приличный вид, в котором на днях Тургенев сдаст его в типографию;1 но что если я все еще желаю поднести его величеству свой перевод од Горация2, то для этой цели мне необходимо воспользоваться, с наступлением мира, возможностью получить отпуск.
1 (Цензурное разрешение сборника стихотворений Фета было получено 11/23 февраля 1856 г.)
2 (Тургенев специально ходатайствовал перед министром народного просвещения А. С. Норовым о разрешении посвятить фетовский перевод од Горация Александру II. 14 мая 1856 г. (по докладу министра) Александр II разрешил посвятить ему перевод (Тургенев, Письма, т. II, с. 386, 638). Посвящение появилось в отдельном издании: "Оды Квинта Горация Флакка в четырех книгах". Перевод с латинского А. Фета. СПС., 1856)
Вследствие этого, в первых числах января 1856 года, испросивши четырнадцатидневный отпуск, я однажды вечером растворил дверь в кабинет Некрасова и нежданно захватил здесь весь литературный кружок.
- О! а! э! и! - раздалось со всех сторон. Между прочим и Дружинин с улыбкою, протягивая мне обе руки, громко воскликнул:
На суку извилистом и чудном!1 -
1 (Строка из стихотворения Фета "Фантазия" (1850))
повторяя мой, спасенный его разъяснениями, стих.
С этих пор милый Дружинин постоянно встречал меня этим стихом, точно так же, как, в свою очередь, я постоянно встречал Полонского его стихом:
В те дни, как я был соловьем!
И каждый раз на мое приветствие он сам разражался добродушнейшим смехом.
- Ведь вот, - продолжал я, - ты сам хохочешь над нелепостью своего же стиха. По кому же, кроме прирожденного поэта, может прийти в голову такая нелепость и кому же другому так охотно простят ее?
Весьма забавно передавал Тургенев, в лицах, недоумения и споры, возникавшие в кругу моих друзей по поводу объяснений того или другого стихотворения. Всего забавнее выходило толкование стихотворения:
О не зови! Страстей твоих так звонок
Родной язык... -
кончающегося стихами:
И не зови, но песню наудачу
Любви запой;
На первый звук я как дитя заплачу
И за тобой!1
1 (Полностью опубликовано в первом сборнике стихотворении Фета (1850))
Каждый, прислушиваясь к целому стихотворению, чувствовал заключающуюся в нем поэтическую правду, и она нравилась ему, как гастроному вкусное блюдо, составных частей которого он определить не умеет.
- Ну позвольте! Не перебивайте меня! - говорит кто-либо из объясняющих. - Дело очень просто: не зови меня, мне не следует идти за тобою, я уже испытал, как этот путь гибелен для меня, а потому оставь меня в покое и не зови.
- Прекрасно! - возражают другие, - но почему же вы не объясняете до конца? Как же связать - "о не зови"... с концом:
...я как дитя заплачу И за тобой!
- Ясно, что эта решимость следовать за нею в противоречии со всем стихотворением.
- Да, точно! - в смущении говорит объяснитель, и всеобщий хохот заглушает слова его.
- Позвольте, господа! - восклицает гр. Л. Толстой. - Это так просто!
Но и на этот раз толкование приходит в тупик, покрываемое общим хохотом.
Как это ни невероятно, среди десятка толкователей, исключительно обладавших высшим эстетическим вкусом, не нашлось ни одного, способного самобытно разъяснить смысл стихотворения; и каждый, раскрыв издание 1856 года, может убедиться, что знатоки, не справившись со стихотворением, прибегли к ампутации и отрезали у него конец. А кажется, легко было понять, что человек влюбленный говорит не о своих намерениях следовать или не следовать за очаровательницей, а только о ее власти над ним. "О не зови - это излишне. Я без того, заслышав песню твою, хотя бы запетую без мысли обо мне, со слезами последую за тобой"<...>
Зная мою страсть к романсам, и романсам Глинки в особенности, Тургенев однажды вечером повез меня к певице1, мужу которой не без основания предсказывал блестящую будущность на дипломатическом поприще. Я был представлен трем сестрам-певицам, из которых две случайно в этот вечер встретились в салоне старшей их сестры, хозяйки дома. Справедливость вынуждает сказать, что именно сама хозяйка была менее всех сестер наделена красотою. Спровадив более или менее формальных гостей, хозяйка сумела увести своих сестер и нас с Тургеневым в залу к роялю, и тут началось прелестнейшее трио. Но вот сестры хозяйки, вынужденные возвратиться домой, ушли одна за другою, и мы остались с Тургеневым у рояля, за которым хозяйка приступила к специальному исполнению романсов Глинки. Во всю жизнь я не мог забыть этого изящного и вдохновенного пения. Восторг, окрылявший певицу, сообщал обращенному к нам лицу ее духовную красоту, перед которой должна бы померкнуть заурядная, хотя бы и несомненная красота. Душевное волнение Глинки, передаваемое нам певицею, прежде всего потрясало ее самое, и в конце романса она, закрывая лицо потами, уходила от нас, чтобы некоторое время оправиться от осиливших ее рыданий. Минут через пять она возвращалась снова и без всяких приглашений продолжала петь. Я никогда уже не слыхивал такого исполнения Глинки.
1 (Речь идет об Александре Ивановне Гире, талантливой певице, салон которой посещали выдающиеся русские композиторы, музыканты, художники - Даргомыжский, Глинка, Балакирев, Антон Рубинштейн и др. Фет явно ошибся, отнеся этот ВИЗИТ к 1856 г., что ВИДНО ИЗ письма Тургенева к А. И. Гире от 3/15 апреля 1860 г. (Тургенев, Письма, т. IV, с. 61))
Решительно не припомню в настоящую минуту, кто по просьбе больного и никуда не выезжавшего графа Кушелева-Безбородко познакомил меня с ним. Желание Кушелева познакомиться со мною я объясняю тогдашнею его фантазией издавать журнал, которому он дал название "Русское слово". Я нашел в нем добродушного и скучающего богача, по болезненности прервавшего мало-помалу все сношения с так называемым светом, требовавшие известного напряжения. Всякое общественное положение, даже простое богатство требует от человека усилий, чтобы нести это вооружение к известной цели. Можно хорошо или плохо разыгрывать свою роль, но отказаться от нее совершенно - невозможно1. Кушелев именно, как мне кажется, думал прожить одною своею великолепною обстановкою и при этом пришел к материальному и духовному банкротству <...>
1 (Г. А. Кушелев-Безбородко издавал журнал "Русское слово" с 1859 по 1862 г. Мысль об издании журнала возникла у него еще в январе 1858 г., о чем он писал Я. П. Полонскому, приглашая его в сотрудники ("Русская земля", 1904, № 3, 3 янв.). Тургенев, так же как и Фет, иронически относился к графу Кушелеву-Безбородко, воспринимая его лишь в качестве богатого мецената. "Кушелев мне кажется дурачком, - писал он Дружинину 5/17 декабря 1856 г., - я его все вижу играющим у себя на вечере - на цитре - дуэт с каким-то итальянским голодным холуем; но он богат - и потому может быть полезен" (Тургенев, Письма, т. III, с. 53))
Хотя во время, о котором я говорю, вся художественно-литературная сила сосредотачивалась в дворянских руках, но умственный и материальный труд издательства давно поступил в руки разночинцев, даже и там, где, как, например, у Некрасова и Дружинина, журналом заправлял сам издатель. Мы уже видели, как при тяготении нашей интеллигенции к идеям, вызвавшим освобождение крестьян, сама дворянская литература дошла в своем увлечении до оппозиции коренным дворянским интересам, против чего свежий неизломанный инстинкт Льва Толстого так возмущался1. Что же сказать о той среде, в которой возникли "Искра" и всемогущий "Свисток" "Современника", перед которым должен был замолчать сам Некрасов. Понятно, что туда, где люди этой среды, чувствуя свою силу, появлялись как домой, они вносили и свои приемы общежития. Я говорю здесь не о родословных, а о той благовоспитанности, на которую указывает французское выражение: "enfant de bonne maison", рядом с его противоположностью<...>
1 (Фет не прав: Толстому и в пятидесятые годы была чужда позиция абсолютной защиты сословных дворянских интересов. В 1858 г. оп составил "Записку о дворянском вопросе", в которой рассматривал дворянскую интеллигенцию как оппозиционную антикрепостническую силу)
И вот русский барин-богач, взявшийся за непосильную ему умственную работу, является со знаменем во всех отношениях враждебного ему лагеря. Но не наше дело спрашивать, почему всем активным русским силам надлежало стать жертвою мелодраматических фраз. Только будущее способно ответить на такой вопрос, а моя задача - рассказывать о виденном.
Приходится, в числе лиц, принадлежавших к нашему литературному кружку, вспомнить о М. А. Языкове, неизменно присутствовавшем на всех наших беседах, вечерах и попойках, хотя он был человек женатый и занимал прекрасное помещение на казенном фарфоровом заводе. Он выл человек весьма дельный и, помнится, избираем был Тургеневым третейским судьею в каком-то щекотливом деле. Но когда на своих хромающих и от природы кривых ножках он с улыбкою входил в комнату, каждый, протягивая ему руку, был уверен, что услышит какую-либо нелепость.
Бывало, зимою, поздно засидевшись после обеда, кто-нибудь из собеседников крикнет! "Господа! поедемте ужинать к Языкову!" И вся ватага садилась на извозчиков и отправлялась на фарфоровый завод к несчастной жене Языкова, всегда с особенною любезностью встречавшей незваных гостей. Не знаю, как она успевала накормить всех, но часа через полтора или два являлись сытные и превосходные русские блюда, начиная с гречневой каши со сливочным маслом или со сливками и кончая великолепным поросенком, сырниками и т. д. И ватага отваливала домой, довольная хозяевами и ночною экскурсией.
Быть может, не всем известно, что Тургеневу стоило большого труда выпросить у Тютчева тетрадку его стихотворений для "Современника"1. Познакомившись впоследствии с Федором Ивановичем, я убедился в необыкновенной его авторской скромности, но которой он тщательно избегал не только разговоров, но даже намеков на "го стихотворную деятельность. Появление небольшого собрания стихотворений Тютчева в "Современнике" было приветствовано в нашем кругу со всем восторгом, которого заслуживало это капитальное явление.
1 (См. письмо Тургенева 10/22 февраля 1854 г. к С. Т. Аксакову (Тургенев, Письма, т. II, с. 216). Стихотворения Тютчева публиковались в двух книжках "Современника" за 1854 г. (кн. 3 и 5). В этом же году вышло и первое отдельное издание: "Стихотворения Ф. Тютчева", СПб., 1854. В апрельском номере "Современника" (1854) была напечатана статья Тургенева "Несколько слов о стихотворениях Ф. И. Тютчева" (Тургенев, Соч., т. V, с. 423 - 428))
Все это приходит мне на память по случаю обеда, данного нами но подписке в честь Тургенева1, нередко угощавшего нас прекрасными обедами. За обедом, в зале какой-то гостиницы, шампанского, а главное - дружеского единомыслия, - было много, а потому всем было весело. Собеседники не скупились на краткие приветствия, заставлявшие талант и литературные заслуги Тургенева.
1 (По всей вероятности, прощальный обед перед отъездом Тургенева в мае 1856 г. из Петербурга (а затем за границу) состоялся не раньше апреля 1856-го, но не в январе, как утверждает Фет (см. Тург. сб., Орел, 1960, с. 196 - 197))
- Господа! - воскликнул Тургенев, подымая руку, - позвольте просить вашего внимания. Вы видите, Михаил Александрович Языков желает говорить.
- Языков, Языков желает сказать спич! - раздались хихикающие голоса.
Языков, высоко поднимая бокал и озираясь кругом серьезно произнес:
Хотя мы спичем и не тычем, Но чтоб не быть разбиту параличом... -
и сел. Раздался громкий смех, что и требовалось доказать. Мне стало совестно, что я ничего не приготовил, и, вытащивши записную книжку, я на коленях написал и затем громко прочел следующее четверостишие:
Поднять бокал в честь дружного союза К Тургеневу мы нынче собрались. Надень ему венок, шалунья муза, Надень и улыбнись!
Минуты две спустя Тургенев, в свою очередь, попросил слова и сказал:
Все эти похвалы едва ль ко мне придутся, Но вы одно за мной признать должны: Я Тютчева заставил расстегнуться И Фету вычистил штаны.
Гомерический смех был наградою импровизатору.
Из Главы VI
В Париже, за отсутствием сестры, уехавшей в Остенде, единственным знакомым мне человеком оказался Тургенев1, которого адрес мне был известен из его письма<...>
1 (Фет ездил за границу в 1856 г. В сентябре оп навещал Тургенева в Париже и в Куртавнеле, загородном доме Виардо. Об этих встречах Тургенев писал Л. Толстому 16/28 ноября 1856 г
В результате этой заграничной поездки Фета во Францию и Италию появились его путевые записки - очерк "Из-за границы" ("Современник", 1856, № 11), - в которых Тургенев находил "искренность впечатлений")
Не без душевного волнения отправился я в rue de l'Arcade отыскивать Тургенева, которого могло там не быть. Спрашиваю привратника - говорит: "Здесь".
Тургенев, сидевший за рабочим столом, с первого взгляда не узнал меня в штатском, но вдруг крикнул от изумления и бросился меня обнимать, восклицая: "Вот он! вот он!"
Помещение, занимаемое Тургеневым, если не принимать в расчет формы потолка и двух лишних этажей, в сущности, мало отличалось от моего: тот же небольшой салон с камином и часами перед зеркалом и маленькая спальня.
Пока мы разговаривали, вошел высокого роста худощавый с проседью брюнет. Тургенев познакомил нас, назвавши мне господина Делаво. Оказалось, что г. Делаво прожил несколько лет в России, где познакомился с русской литературой и с литературным кружком раньше моего с последним знакомства. Так, знал он Панаевых, Некрасова, Гончарова, Боткина, Тургенева и даже меня по имени. В настоящее время он в Париже занимался переводами с русского языка и, как сказывал мне Тургенев, должен был перебиваться весьма затруднительно в денежном отношении<...>
Однажды мы с Тургеневым сидели в первом ряду кресел театра Vaudeville на представлении "La dame aux саmelias"*. Последнюю ломала перед нами старая и чахоточная актриса, имени которой не упомню. Тургенев сообщил мне шепотом, что покрывающие ее бриллианты - русские. При ее лживых завываниях Тургенев восклицал: "Боже! Что бы сказал Шекспир, глядя на все эти штуки!" А когда она бесконечно завыла перед смертью, я услыхал русский шепот: "Да ну, издыхай скорей!" Между тем дамы в ложах зажимали платками глаза. При таком несообразном зрелище я не выдержал и, припав головою к рампе, затрясся неудержимым смехом. Это не мешало Тургеневу давать мне шепотом знать, что многие недовольные взоры обращены на меня и что, если я буду продолжать смеяться, грозное "а la port!"** не заставит ждать себя.
* ("Дама с камелиями" (фр.))
** ("вон!" (фр.))
Покуда я осматривал парижские диковинки, Тургенев успел уехать, и я снова стал испытывать скуку, невзирая на любезную услугу Делаво.
Недели через две я получил от Тургенева письмо следующего содержания: "С последнего свидания нашего в Париже я поселился у добрых приятелей и почти ежедневно таскаюсь с хозяином дома на охоту, хотя куропаток в этот год весьма мало. Не знаю, когда буду в Париже. Если вам скучно, садитесь на железную дорогу, взяв предварительно билет в дилижанс, отходящий в Rosoy en Brie, куда к вам навстречу вышлют экипаж из Куртавнеля,. имения г. Виардо. По крайней мере, получите понятие о французской деревенской жизни".
"В самом деле, - подумал я, - отчего же не проехаться и не взглянуть?" И вслед затем написал, что в будущий понедельник выеду. В понедельник, набрав небольшую лукошку персиков и фоитенебльского винограда, до которого Тургенев был большой охотник, я рано утром отправился на железную дорогу<...>
Позвонив и не замечая никакого движения ни перед фасадом дома, ни по дорожкам, ведущим вокруг цветочных клумб и деревьев к воротам, я стал рассматривать мое будущее пристанище. Пепельно-серый дом или, вернее, замок с большими окнами, старой, местами мхом поросшей кровлей, глядел на меня из-за каштанов и тополей с тем сурово-насмешливым выражением старика, свойственным всем зданиям, на которых не сгладилась средневековая физиономия, - с выражением, явно говорящим: "Э, вы, молодежь! Вам бы все покрасивее да полегче; а по-нашему попрочнее да потеплее. У вас стенки в два кирпичика, а у нас в два аршина. Посмотрите, какими широкими канавами мы себя окапываем; коли ты из наших, опустим подъемный мост, и милости просим, а то походи около каменного рва да с тем и ступай. Ведь теперь у вас, говорят, просвещение да земская полиция не дают воли лихому человеку. А кто вас знает, оно все-таки лучше, как в канаве-то вода не переводится".
Кроме цветов, пестревших но клумбам вдоль фасада, под окнами выставлены из оранжерей цветы и деревья стран более благосклонных. Насмотревшись на эспланаду, на каменный ров, в зеленую воду которого ветерок ронял беспрестанно листы тополей и акаций, позлащенные дыханием осени, на самый фасад замка, я позвонил снова, и на этот раз навстречу мне вышел лакей.
- Дома господин Виардо?
- Нет.
- А Тургенев?
- Тоже нет.
- Где же они?
- На охоте.
- Когда же они вернутся?
- Теперь час; они непременно должны быть к обеду, то есть к шести часам.
- Ну, а мадам Виардо дома?
- Мадам дома, только она еще не выходила. Вы желаете видеть господина Тургенева? Позвольте, я снесу пока ваши вещи в его комнату. Пожалуйте!
По каменным ступеням низенькой лестницы главного входа мы вошли в высокий, светлый коридор, выходивший в приемную комнату. Здесь встретила меня женщина средних лет, но кто она - хозяйка ли дома, родственница или знакомая хозяев? - я не имел ни малейшего понятия. Отрекомендовавшись, я намекнул на желание видеть Тургенева.
- Не угодно ли пожаловать в гостиную, пока вам приготовят комнату? Сестра еще не выходила, а брат и Тургенев на охоте.
Ну, слава богу! По крайней мере, знаю, с кем говорю. В высокой и просторной, во всю глубину дома проходящей угольной гостиной в два света, стол посредине, против камина - круглый стол, обставленный диванчиками, кушетками и креслами. В окна, противоположные главному фасаду, смотрели клены, каштаны и тополи парка. В простенке тех же окон стоял рояль, а у стены, противоположной камину, на диване, перед которым была разложена медвежья шкура, сидели молодые девушки, вероятно, дети хозяев. Я поместился на кушетке у круглого стола и завязал один из спасительных разговоров, в продолжение которых мучит одна забота: как бы его хилой нитки хватило на возможно долгое время.
- Теперь ваша комната готова, - сказала дама, взглянув на вошедшего слугу, - несли вам угодно отдохнуть или устроиться с дороги, делайте, как найдете удобным.
Я поклонился и пошел за слугою по знакомому коридору. Поднявшись по широкой лестнице во второй этаж, мы снова очутились в длинном коридоре с дверями направо и налево. В конце, направо у двери, лакей остановился и отворил ее.
- Вот ваша комната. Не прикажете ли горячей воды? Мадам приказала спросить, не угодно ли вам завтракать. Здесь завтракают в двенадцать часов, время прошло, а до обеда еще четыре часа.
Я отказался, и лакей вышел. Взятую с собой на всякий случай книгу читать не хотелось; дай хоть рассмотрю, где я. В окно виднелся тот же парк, который я мельком заметил из гостиной. Внизу, у самой стены, светился глубокий каменный ров, огибающий весь замок. Легкие, очевидно в позднейшее время через него переброшенные, мостики вели под своды дерев парка. Тишина, не возмущаемая ничем. Я закурил сигару и отворил окно, - все та же мертвая тишина. Лягушки тихо двигались в канаве но пригретой солнцем зеленой поверхности стоячей воды. С полей, прилегающих к замку, осень давно разогнала всех рабочих. Ни звука.
- Мадам приглашает вас в гостиную, если вам угодно - проговорил лакей, не прося позволения войти в комнату.
"Слава богу! Наконец-то!" - подумал я и пошел.

Рис. 24. Н. Г. Чернышевский. Фотография В. Лауфорта. 1857 г.
В гостиной, кроме знакомых уже лиц, я заметил женщину, присевшую у камина и передвигавшую бронзовую решетку. При шуме моих шагов она обернулась, встала, и по свободной грации и той любезно-приветливой улыбке, которою образованные женщины умеют встречать гостя, не было сомнения, что передо мной хозяйка дома. Я извинился в хлопотах, причиненных моим приездом, на который Тургенев, без сомнения, испросил позволение хозяйки.
- Очень рада случаю с вами познакомиться, но Тургенев, по обычной рассеянности, не сказал ни слова, и вот почему вы должны были ожидать, пока приготовят вашу комнату. Но теперь все улажено, садитесь, пожалуйста.
Завязался разговор, и в десять минут хозяйка вполне успела хоть на время изгладить из памяти миниатюрную одиссею этого дня.
- Теперь обычное время наших прогулок. Не хотите ли пойти с нами?
День был прекрасный. Острые вершины тополей дремали в пригревающих лучах сентябрьского солнца, падалица пестрела вокруг толстых стволов яблонь, образующих старую аллею проселка, которою замок соединен с шоссе. Из-под скошенного жнивья начинал, зеленея, выступать пушистый клевер; невдалеке, в лощине около канавы, усаженной вербами, паслись мериносы; на пригорке два плуга, запряженные парами дюжих и сытых лошадей, медленно двигались друг за другом, оставляя за собою свежие, темно-бурые полосы. Когда мы обошли по полям и небольшим лескам вокруг замка, солнце уже совершенно опустилось к вершинам леса, разодевшись тем ярким осенним румянцем, которым горит лицо умирающего в чахотке.
- Как вам нравится здешняя природа? - спросила меня хозяйка.
- Природа везде хороша.
- Вы снисходительнее других к нашим местам. Мадам Дюдеван, гостя у меня, постоянно находила, что здесь почти жить нельзя, - так пустынны наши окрестности.
Версты за полторы раздались выстрелы.
- А! Это наши охотники возвращаются. Пойдемте домой через сад, тогда вы будете иметь полное понятие о здешнем хозяйстве.
Мы подошли к лощинке, около которой паслись стада мериносов. "Babette! Babette!" - закричала одна из девочек, шедших с англичанкой. На голос малютки из стада выбежала белая коза и доверчиво подошла к своей пятилетней госпоже. Около оранжерей вся дамская компания рассеялась вдоль шпалер искать спелых персиков к обеду. Опять раздались выстрелы, но на этот раз ближе к дому. Уверенный, что Тургенев забыл о своем приглашении и, во всяком случае, не ожидает моего приезда, я предложил дамам не говорить обо мне ни слова, предоставляя ему самому найти меня у себя в кабинете. Заговор составился, и, как только завидели охотников, я отправился в комнату Тургенева. Но судьба отметила этот день строгою чертою неудач. Кто-то из прислуги, не участвовавший в заговоре, объявил о моем приезде, и Тургенев встретил меня вопросом:
- Разве вы не получали моего письма?
- Какого письма?
- Я писал, что хозяева ожидают на несколько дней приезжих дам, и в доме все лишние комнаты будут заняты. Поэтому я советовал вам приехать дней через десять.
Итак, опять неудача. Уехать сейчас же неловко, сидеть долго тоже неловко. Я решился уехать, пробыв еще день. Раздался звонок к обеду, и все общество, довольно многочисленное, собралось в угольной зале, в противоположном от гостиной конце дома. Желая сколько-нибудь оправдать в глазах хозяина свой приезд, я громко спросил:
- Тургенев! неужели вы ни словом не предупредили хозяйку о моем приезде?
На это мадам Виардо шутя воскликнула:
- О, он дикарь! (Се sont de ses tours de sauvage!)
На что Тургенев стал трепать меня по плечу, приговаривая:
- Он добрый малый!
Разговор переходил от ежедневных событий собственно семейного круга к вопросам общим: политическим и литературным. Зашла речь о последних стихотворениях Гюго, и хозяин, в подтверждение своих слов касательно силы, которую поэт проявил в некоторых новых пьесах, прочел на память несколько стихов. Из-за стола все отправились в гостиную. Приехал домашний доктор, составился вист, хозяйка села за рояль, и долго чудные звуки Моцарта и Бетховена раздавались в комнате.
Так прошел день. На другой почти то же самое; следует только прибавить утренние партии на биллиарде, а к вечеру, кроме музыки и виста, серебряные голоски девиц, прочитывающих вслух роли из Мольера, приготовляемого к домашнему театру.
С особенною улыбкою удовольствия Тургенев вслушивался в чтение пятнадцатилетней девушки, с которою он тотчас же познакомил меня как с своей дочерью Полиною. Действительно, она весьма мило читала стихи Мольера; но зато, будучи молодым Иваном Сергеевичем в юбке, не могла предъявлять ни малейшей претензии на миловидность.
- Полина! - спросил Тургенев девушку. - Неужели ты ни слова русского не помнишь? Ну как по-русски "вода"?
- Не помню.
- А "хлеб"?
- Не знаю.
- Это удивительно! - восклицал Тургенев.
Во взаимных отношениях совершенно седого Виардо и сильно поседевшего Тургенева, несмотря на их дружбу, ясно выражалась приветливость полноправного хозяина, с одной стороны, и благовоспитанная угодливость гостя, с другой. Спальня Тургенева помещалась за биллиардной; и, как я узнал впоследствии, запертая дверь из нее выходила в гостиную. Конечно, я только спал в отведенной мне во втором этаже комнате, стараясь по возможности бежать к Тургеневу и воспользоваться его беседою на чужой стороне.
На другое утро, когда я спозаранку забрался в комнату Тургенева, у нас завязалась самая оживленная беседа, мало-помалу перешедшая в громогласный спор.
- Заметили ли вы, - спросил Тургенев, - что дочь моя, русская но происхождению, до того превратилась во француженку, что не помнит даже слова "хлеб", хотя она вывезена во Францию уже семи лет.
Когда я, в свою очередь, изумился, нашедши русскую девушку в центре Франции, Тургенев воскликнул:
- Так вы ничего не знаете, и я должен вам все это рассказать! Начать с того, что вот этот Куртавнель, в котором мы с вами в настоящую минуту беседуем, есть, говоря цветистым слогом, колыбель моей литературной известности. Здесь, не имея средств жить в Париже, я, с разрешения любезных хозяев, провел зиму в одиночестве, питаясь супом из полукурицы с яичницей, приготовляемых мне старухой ключницей. Здесь, желая добыть денег, я написал большую часть своих "Записок охотника";1 и сюда же, как вы видели, попала моя дочь из Спасского. Когда-то, во время моего студенчества, приехав на ваканцию к матери, я сблизился с крепостною ее прачкою. Но лет через семь, вернувшись в Спасское, я узнал следующее: у прачки была девочка, которую вся дворня злорадно называла барышней, и кучера преднамеренно заставляли ее таскать непосильные ей ведра с водою. По приказанию моей матери, девочку одевали на минуту в чистое платье и приводили в гостиную, а покойная мать моя спрашивала: "Скажите, на кого эта девочка похожа?" Полагаю, что вы сами убедились вчера в легкости ответа на подобный вопрос. Все это заставило меня призадуматься касательно будущей судьбы девочки; а так как я ничего важного в жизни не предпринимаю без совета мадам Виардо, то и изложил этой женщине все дело, ничего не скрывая. Справедливо указывая на то, что в России никакое образование не в силах вывести девушек из фальшивого положения, мадам Виардо предложила мне поместить девочку к ней в дом, где она будет воспитываться вместе с ее детьми2. И не в одном этом отношении, - прибавил Тургенев, воодушевляясь, - я подчинен воле этой женщины. Нет! она давно и навсегда заслонила от меня все остальное, и так мне и надо<...>
1 (В течение 1847 - 1851 гг., большую часть которых Тургенев прожил за границей, в основном во Франции, им было написано 22 очерка из "Записок охотника", печатавшихся сначала в "Современнике", а затем вышедших отдельной книгой (1852). Фет тенденциозно передает историю возникновении "Записок охотника", якобы появившихся только из-за желания Тургенева "добыть денег". В "Литературных и житейских воспоминаниях" Тургенев писал, что "Записки охотника" были исполнением его аннибаловской клятвы - до конца бороться с крепостным правом; "Я и на Запад ушел для того, чтобы лучше ее исполнить<...> я, конечно, не написал бы "Записок охотника", если б остался в России" (Тургенев, Соч., т. XIV, с. 9 - 10))
2 (О Полине Тургеневой см. ст.: Т. И. Бронь. Тургенев и его дочь Полина Тургенева-Брюэр. - Typг, сб., II, 1966, с. 324 - 338)
Мало-помалу разговор наш от частностей перешел к общему. Оказалось, что мы оба инстинктивно находились под могучим влиянием Кольцова. Меня всегда подкупало поэтическое буйство, в котором у Кольцова недостатка нет, и я тогда еще не успел рассмотреть, что Кольцов, говоря от имени крестьянства, говорит псевдокрестьянским языком, непонятным для простонародья, чем и объясняется его непопулярность. Ни один крестьянин не скажет:
Родись терпеливым И на все готовым1.
1 (Из стихотворения Л. В. Кольцова "Вторая песня Лихача-Кудрявича" (1837))
Тем не менее, невзирая на несоответствие формы содержанию, в нем так много специально русского воодушевления и задора, что последний одолевал и такого западника, каким стал Тургенев под влиянием мадам Виардо. Помню, с каким воодушевлением он повторял за мною:
И чтоб с горем в пиру Быть с веселым липом, На погибель идти - Песни петь соловьем1.
1 (Из стихотворения "Путь" (1839))
Хотя мне до сих пор кажется, что такие качества менее всего у нас с Тургеневым в характере. Как бы то ни было, я вынужден не только рассказать о вечных наших с Тургеневым разногласиях, но и объяснить их источник, насколько я их в настоящее время понимаю. Ожесточенные споры наши, не раз воспроизведенные под другими именами в рассказах Тургенева, оставляли в душе его до того постоянный след, что, привезши мне в 1864 году из Баден-Бадена стихотворения Мёрике, он на первом листе написал: "Врагу моему А. А. Фету на память пребывания в Петербурге в январе 1864 г."1<...>
1 (Фет пробыл в Петербурге до 23 января 1864 г)
Не странно ли, что споры, которым мы с Тургеневым за тридцать пять лет безотчетно предавались с таким ожесточением, нимало не потерявши своей едкости, продолжаются между славянофилами и западниками по сей день, невзирая на многократные их обсуждения с разных сторон и указания наглядного опыта?<...>
Впоследствии мы узнали, что дамы в Куртавнеле, поневоле слыша наш оглушительный гам на непонятном и гортанном языке, наперерыв восклицали: "Боже мой! они убьют друг друга!" И когда Тургенев, воздевши руки и внезапно воскликнув: "Батюшка! Христа ради, не говорите этого!" - повалился мне в ноги, и вдруг наступило взаимное молчание, дамы воскликнули: "Вот они убили друг друга!"<...>
На третий день я объявил желание возвратиться в Париж.
Из Главы VII
На этот раз мы оставались в Париже недолго1. Зима гнала нас и от французских каминов, как прогнала от итальянских. Тургенева в его rue de l'Arcade я застал в нескольких шинелях за письменным столом. Не понимаю, как возможна умственная работа в таких доспехах! Узнав от него о прибытии семейства Виардо на зиму в Париж, я отправился к ним с визитом в собственный их дом rue de Douai, 50. Надо отдать полную справедливость мадам Виардо по отношению к естественной простоте, с которою она умела придавать интерес самому будничному разговору, очевидно тая в своем распоряжении огромный арсенал начитанности и вкуса.
1 (Фет был у Тургенева в Париже в январе - феврале 1857 г. (Тургенев, Письма, т. III, с. 87))
Прочитавши объявление о концерте, в котором, кроме квартета, было несколько номеров пения мадам Виардо, мы с сестрою отправились в концерт. Не могу в настоящее время сказать, какого рода была концертная зала, но, без сомнения, она принадлежала учебному заведению, так как публика занимала скамейки с пюпитрами, восходившими амфитеатром. Мы с сестрою сидели впереди скамеек на стульях у самого концертного рояля. Во все время пения Виардо Тургенев, сидящий на передней скамье, склонялся лицом на ладони с переплетенными пальцами. Виардо пела какие-то английские молитвы и вообще пиесы, мало на меня действовавшие как на немузыканта. Афиши у меня в руках не было, и я проскучал за непонятными квартетами и непонятным пением, которыми видимо упивался Тургенев. Но вдруг совершенно для меня неожиданно мадам Виардо подошла к роялю и с безукоризненно чистым выговором запела: "Соловей мой, соловей". Окружающие пас французы громко аплодировали, что же касается до меня, то это неожиданное мастерское, русское пение возбудило во мне такой восторг, что я вынужден был сдерживаться от какой-либо безумной выходки<...>
Имея перед собою целые сутки, я решился попробовать счастья, отыскивая Тургенева в rue de l'Arcade. На мой боязливый вопрос привратник отвечал: "Господина Тургенева нет дома".
- Где же он? - спросил я тоскливо.
- Он отправился в кофейню пить кофе.
- В какую кофейню?
- Он постоянно ходит в одну и ту же.
Привратник дал мне адрес кофейной. Вхожу, не замечая никого из посетителей, и во второй комнате вижу за столом густоволосую седую голову, заслоненную большим листом газеты.
- Pardon, monsieur, - говорю я, подходя.
- Боже мой, кого я вижу! - восклицает Тургенев и бросается обнимать меня.
Мы отправились к нему в rue do l'Arcade и сговорились в этот день вместе отобедать.
- Вот, - говорил Тургенев, - обыкновенно поэтов считают сумасшедшими; а в конце концов посмотришь на их действия, и дело выходит не так безумно, как надо бы ожидать.
В голове моей промелькнуло, что никто лучше самого Тургенева не оправдывает мнения о сумасшествии поэтов. Но в данную минуту мне было вовсе не до сарказмов<...>
Как-то в полуденное время И. А. Гончаров<...> пригласил Тургенева, Боткина и меня на чтение своего только что оконченного "Обломова"1. В жаркий день в небольшой комнате стало нестерпимо душно, и продолжительное, хотя и прекрасное чтение наводило на меня неотразимую дремоту. По временам, готовый окончательно заснуть, я со страхом подымал глаза на Боткина и встречал раздраженный взгляд его, исполненный беспощадной укоризны. Но через десять минут сон снова заволакивал меня своею пеленою. И так до самого конца чтения, из которого я, конечно, не унес никакого представления.
1 (Чтение романа "Обломов", завершенного Гончаровым во время пребывания за границей в июле - августе 1857 г., происходило в течение 19/31 августа и 20 августа/1 сентября 1857 г. Об этом Гончаров писал 22 августа/3 сентября И. И. Льховскому (И. А. Гончаров. Собр. соч., т. 8, с. 296). Тургенев с первого же чтения почувствовал глубину и значительность нового произведения писателя. "Гончаров прочел нам с Боткиным своего оконченного "Обломова", - сообщает он 9/21 сентября Н. А. Некрасову, - есть длинноты, но вещь капитальная - и весьма было бы хорошо, если б можно было приобрести ее для "Современника" (Тургенев, Письма, т. III, с. 151))
Начались заботы о приданом и приготовления к назначенному дню свадьбы1<...>
1 (Свадьба Фета, женившегося на М. П. Боткиной (родной сестре В. П. Боткина), состоялась 16/28 августа 1857 г)
Шаферами у невесты <Марии Петровны Боткиной> были ее братья, а у меня И. С. Тургенев.
Шестнадцатого августа в четыре часа карета, запряженная парою прекрасных серых лошадей, с лакеем и кучером в одинаковых ливреях, явилась к нашему подъезду. А я, не желая тратить денег на ненужный мне фрак, оделся в полную уланскую форму и отправился в церковь с Тургеневым.
"Итак, - подумал я, становясь на ковер, - вот он Рубикон, за которым начинается новый, неведомый поворот жизненного течения". Никогда не испытывал я подобного страха, как в этот миг, и с озлоблением смотрел на Тургенева, который неудержимо хохотал, надевая на меня венец из искусственных цветов, так странно противоречивших военной форме. За обычными поздравлениями новобрачная пошла прикладываться к местным иконам, а свидетели стали расписываться в церковной книге.
Можно было предполагать, что два известных литератора не напишут в метрической книге вздору. Такое предположение не оправдалось в 1880 году, когда, с переселением в Курскую губернию, мне пришлось записаться в Курскую дворянскую книгу1. Потребовали метрическое свидетельство о браке, не удовлетворяясь почему-то указом об отставке, в котором сказано: "Женат на девице Боткиной". Пришлось списываться со священником парижской посольской церкви, который немедля ответил, что в книге записано: "С дочерью Петра Кононова" и опущено последнее слово: "Боткина". В архиве петербургской консистории, конечно, стояло то же самое, и нужно было, чтобы все оставшиеся в живых братья Боткины подали заявление, что сестра их действительно повенчана со мною в 1857 году и что фамилия "Боткина" опущена по недосмотру свидетелей.
1 (Осенью 1877 г. Фет приобрел в Курской губернии имение Воробьевка)
Прямо из церкви мы со всеми приглашенными отправились к Филиппу, где в двух комнатах, роскошно уставленных цветами, нас ожидал свадебный обед на двенадцать человек. Тонкий и великолепно поданный обед прошел оживленно и весело. Прекрасного вина, в том числе и шампанского, было много, и под конец обеда Тургенев громко воскликнул: "Я так пьян, что сейчас сяду на пол и буду плакать!"<...>
Вот пришлось и вам думать о возвращении в Москву.
Из Главы IX
Настоящее лето было, можно сказать, самым удачным в Новоселках.
<...>Однажды, когда мы только что вернулись от реки, до которой доходили по березовой аллее, у крыльца раздался грохот подъехавшего экипажа.
- Кого это бог дает? - сказал Ив. Петрович.
Полюбопытствовал и я - и увидал вылезшую из тарантаса плечистую, рослую фигуру в серой широкополой шляпе.
- Вон он! Вон он! - воскликнул Тургенев, с лицом совершенно почерневшим от пыли. - Вот они где! - восклицал он, когда мы все четверо вышли к нему навстречу на крыльцо.
- Идите вон на то крыльцо, в уборную Ивана Петровича умыться и почиститься от пыли.
Через полчаса Тургенев сидел уже в гостиной и говорил о совершенном переустройстве своей жизни в Спасском1 со времени последнего моего там появления. Он сам в первый раз приехал в Новоселки и познакомился с Ив. Петровичем, с женою которого был уже давно знаком. Он говорил, что во главе всего его хозяйства стоит теперь 65-летний дядя его Николай Николаевич, кавалергардский корнет 1814 года2, проживающий в настоящее время в Спасском с молодою женою и свояченицей. Он рассказывал, как дядя его, человек старого покроя, никак не мог в прошлом году помириться с шутовскими проделками Дружинина, Боткина, Григоровича, Колбасина и самого Ивана Сергеевича, сочинивших и поставивших на домашнюю сцену смехотворную пиесу, оканчивающуюся смертью всех действующих лиц, тут же падающих на пол3.
1 (Тургенев приехал в Спасское 13/25 июня 1858 г)
2 (Н. Н. Тургенев управлял имениями И. С. Тургенева с 1853 по 1867 г)
3 (См. об этом в воспоминаниях Д. В. Григоровича)
- Мы сами слышали, - говорил Ив. Серг., - как дядя, шагая под окнами залы вдоль крытой галереи, невольно восклицал: "Оголтелые! оголтелые!"
Передавая мне поклон от мадам Виардо, Тургенев сообщил, что она положила несколько моих стихотворений на музыку, которую прелестно поет, правильно выговаривая русские слова, и говорит про меня: "C'est mon poete"*1.
* (Это мой поэт (фр.))
1 (Имеются в виду стихотворения А. А. Фета, положенные на музыку Полиною Виардо: "Две розы" ("Полно спать, тебе две розы..."), "Звезды" ("Я долго стоил неподвижно..."), "Полуночные образы...", "Тихая звездная ночь...", "Шопот, робкое дыханье...". Они вошли в альбом: "12 стихотворений Пушкина, Фота и Тургенева, переведенные Ф. Боденштедтом и положенные на музыку П. Виардо", СПб., 1864. Издание осуществлялось под негласной редакцией А. Г. Рубинштейна и наблюдением Тургенева)
Неистощим он был в повествованиях о сожительстве и встречах с В. Боткиным. "Так, - между прочим рассказывал Тургенев, - сошлись мы с ним за обедом в большом берлинском отеле. Заговоривши с сидевшим против меня гостем, я упомянул о необычайном приросте городского населения и заметил, что давно ли мы учили по географии, что в Берлине 400 000 жителей, а вот их уже 700 т.
- Это несколько преувеличено, - сказал мой собеседник, - так как их всего неполных шестьсот тысяч.
При этом возражавший ссылался на то, что ему, как здешнему жителю, это должно быть хорошо известно.
Я не уступал, и завязалось пари на два золотых, которое немец взялся немедля разрешить, сходивши в свой номер за гидом. Когда он вышел из-за стола, Боткин, сидевший рядом со мною, излил на меня всю желчь, вероятно, возбужденную в нем необычным эпизодом во время методического трапезования.
- Вот это чисто русское растрепанное многознайство! Вот так-то мы по всему свету развозим свое невежество! Мне стыдно подле тебя сидеть. Нашел с кем спорить! С туземцем! Я очень рад, что он тебя оштрафует за твое позорное русское хвастовство!
Я уткнулся носом в тарелку и замер под его беспощадными упреками. Вдруг чувствую руку на своем правом плече, и споривший со мною немец, шепнувши мне на ухо: "Извините, я проиграл", - положил около моей тарелки два наполеона.
- Кельнер, - сказал я, - бутылку шампанского!
Надо было видеть сладчайший мед, которым мгновенно засияло лицо Боткина. "Молодец, молодец!" - воскликнул он, гладя меня по правому рукаву"<...>
В хорошие дни мы обедали на террасе. Так было и в этот раз; и хотя Надя с любопытством слушала интересные подробности о тургеневском путешествии, тем не менее сумела улучить минуту переговорить с поваром, для того чтобы обед вышел, но ее выражению, - "с крыльями". Она еще из Парижа помнила, что Тургенев умел отличать старательно приготовленный обед от безразличного.
После обеда, едва только Тургенев узнал в Борисове шахматного игрока, как они уже сцепились до самого вечернего чая, и Тургенев с удовольствием принял предложение переночевать в новом флигеле, где ему приготовили, по возможности, удобный ночлег.
На другой день он пришел к нам утром в дом пить чай и приказал запрягать своих лошадей.
- Ну, господа, - сказал он, обращаясь ко мне и к Борисову, - надеюсь, что вы, не считаясь визитами, приедете запросто к нам в Спасское. С вами я не первый год знаком, - обратился он к Наде, - и вы еще в Париже приучили меня к вашему любезному гостеприимству. Что же касается до вас, - сказал он жене моей, - то я ваш шафер<...>
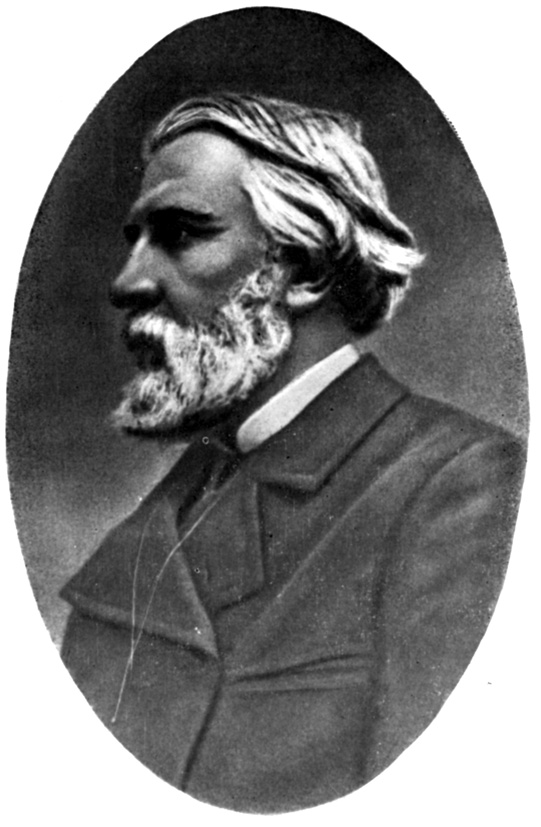
Рис. 25. И. С. Тургенев. Фотография И. и Л. Альгейер. Карлсруэ. 1868 - 1869 годы
Свидания наши с Тургеневым стали с этого дня весьма частыми. Несколько раз и дамы обменялись визитами, и даже сам старик Ник. Ник. приезжал с своими барынями в Новоселки, где, между прочим, застал Льва Ник. Толстого. Указываю на моменты, ярко сохранившиеся в моей памяти, но не в состоянии сказать, сколько раз Тургеневы и Толстые сходились с нами в Новоселках или в Спасском. Помню только, что свидания эти были задушевны и веселы<...>
Приближался июль месяц, около десятого числа которого молодые тетерева не только уже превосходно летают, но начинают выпускать перья, отличающие рябку от черныша. 8-го июля мы с женою приехали в Спасское, где все приготовления к охоте уже были окончены. На передней тройке за день до нашего отъезда отправлялся знаменитый Афанасий с поваренком, еще с другим охотником и с собаками, а на другой тройке в крытом тарантасе следовали мы с Тургеневым днем позднее. Направлялись мы в полесье Жиздринского уезда, Калужской губернии, через Болхов, до которого от Спасского верст пятьдесят. Не бывавший в этой стороне ни разу, я вполне подчинился распоряжениям Тургенева, ехавшего в знакомые ему места. Отправившись из Спасского около полудня, мы прибыли весьма рано на ночлег в Волхов, откуда передовая наша подвода уже выехала на дальнейшую станцию.
В отведенных нам комнатах с целыми восходящими рядами сияющих образов по углам Тургенева встретило препятствие, причинившее ему немало волнения: неразлучную его белую с желтоватыми ушами Бубульку ни за что не хотели впускать в комнату, так как она пес. Над необыкновенного привязанностью Тургенева к этой собаке в свое время достаточно издевался неумолимый Лев Толстой, но со стороны Тургенева такая нежность к Бубульке была извинительна. Когда собака была еще щенком, мадам Виардо, лаская ее, говорила: "Бубуль, бубуль". Это имя за нею и осталось. Со скорым, верным и в то же время осторожным поиском эта превосходная собака соединяла рассудок, граничащий с умозаключениями. Вот один образчик ее соображения, которого я был очевидцем. Привела она нас по чистому полю к оврагу, поросшему кустарником; вела она так осторожно и решительно, что нельзя было сомневаться, что перед нами большой выводок куропаток. Дело выходило крайне неудобное.
Взлетевшие в кустах куропатки непременно бросятся к самому дну оврага и, защищенные кустарником, незаметно пронесутся вдоль оврага, избегнув выстрела. Но делать было нечего: собака стояла как мраморная перед нами, обращая раздувающиеся ноздри к кустам. "Бубуль, але!" - вполголоса командовал Тургенев. Собака оставалась неподвижна. После нескольких тщетных понуканий собака бросилась, но только не в кусты, а по опушке далеко в обход и в порядочном расстоянии уже исчезла в кустах. "Что за притча?" - вполголоса говорил Тургенев. Я тоже ничего не мог понять. "Надо обождать", - шептал Тургенев. Но в ту же минуту большое стадо куропаток, как лопнувшая бомба, с треском и чиликаньем взлетело над нашими головами. Последовало четыре выстрела, и четыре убитых куропатки покатились в кусты.
- Ведь это плакать надо от умиления! - воскликнул Тургенев. - Умнейший человек не мог бы ничего лучшего придумать, как, спустившись на дно оврага, гнать куропаток на нас из густоты на чистое поле.
Бубулька всегда спала в спальне Тургенева, на тюфячке, покрытая от мух и холода фланелевым одеялом. И когда по какому-либо случаю одеяло с нее сползало, она шла и бесцеремонно толкала лапой Тургенева. "Вишь ты, какая избалованная собака", - говорил он, вставая и накрывая ее снова.
С большим трудом удалось нам убедить толстую хозяйку с огненного цвета волосами, выбивающимися из-под шелковой повязки, что Бубулька представляет исключение из всех собак и что поэтому несправедливо считать ее псом. "Пес лает и неопрятен, а она никогда".
На другой день, покормив в дороге, мы к вечеру отправились по заблаговременному плану Тургенева ночевать в усадьбу знакомых ему помещиков Онухтиных.
Когда мы въехали в лесную область, направляясь к северо-западу, сзади нас, то есть с юго-востока, стал подувать ветер, и на горизонте показалась темная туча. "Пошел!" - кричал Тургенев, в то время как ветер, усиливаясь, уносил из-под нас целую тучу пыли. "Ох, захватит нас гроза! - восклицал Тургенев. - Давайте, батюшка, остановимся да подымем верх у тарантаса".
- Да как по-вашему, - спрашивал я, - далеко ли до ваших Онухтиных?
- Да, пожалуй, верст пятнадцать еще будет, и я вам говорю, мы попадем под самую страшную грозу.
Действительно, вечер начинал все хмуриться, так как только полнеба перед нами еще было чисто и сине, а полнеба за нами представляло сплошной черный зонт, все далее над нами надвигавшийся. Мы даже пустили пристяжных вскачь, стараясь уехать от грозы, так пугавшей Тургенева. Но ничто не помогало. Черный зонт окончательно закрыл небосклон, засверкала почти непрерывная молния, освещавшая нам дорогу, раздались раскаты грома, и полился крупный дождик, скоро превративший пыльную дорогу в липкую грязь, прорезаемую бегущими ручьями. Пришлось поневоле ехать шагом. Так довелось ехать под непрерывным дождем и грозою часа два, показавшиеся нам вечностью.
Наконец, при блеске молнии, влево от дороги показался огонек, подавший нам надежду добраться до ночлега. "Тут влево ворота, - говорил Тургенев кучеру, - не зацепи и подъезжай к крыльцу".
Когда вышедший из тарантаса на крыльцо барского Дома Тургенев сказал встретившему нас слуге свою фамилию и спросил молодого барина, слуга пояснил, что молодой барии у соседей в гостях, но что он сейчас доложит старым господам.
Любезные хозяева тотчас же предложили нам оправиться с дороги в мезонине, в комнатах их отсутствующего сына, которому послали дать знать о нашем приезде, невзирая на страшную темень и продолжающийся ливень.
Когда мы оправились с дороги и Тургенев около дивана уложил свою Бубульку, он сказал, что нам следует испросить позволения хозяев явиться к ним вниз и извиниться в нежданном приезде. Хозяин оказался человеком среднего роста, с сильною проседью, типом помещика средней руки, желавшим и умевшим держать хозяйство и дом на подобающей высоте. Предупредительности и любезности хозяйки не было конца. Иван Сергеевич стал расспрашивать их об их сыне, воспитывавшемся в школе правоведения и нередко посещавшем Тургенева в Петербурге. Так как молодой Онухтин был в гостях в самом близком соседстве, то не успели мы кончить чая, как он появился в гостиной и, поздоровавшись с Тургеневым, объявил мне, что давно знаком со мною по литературе. Тургенев, как это нередко случалось, был в духе и очень любезен; посмотрев тихонько на часы, я заметил, что уже одиннадцатый час. Догадался и Тургенев, что нам пора освободить любезных хозяев, и мы было поднялись прощаться, но хозяйка объявила, что без ужина никак невозможно. Мы все отправились в столовую, где поместились: Тургенев по левую, а я по правую руку хозяйки. Здесь совершенно так же, как у нас при отце в Новоселках, нас ожидал тот же обеденный стол в пять блюд, начиная с супа. Проголодавшись за дорогу, я не заставлял себя просить, но Тургенев, весьма редко ужинавший, брал кушанья более для вида. В конце ужина появилось освещенное из середины желе. С меня начали обносить блюдо, и я тотчас же увидал, что доморощенный Ватель произвел освещение своего прозрачного Колизея посредством мужского наперстка, прилепленного желтком к середине блюда, со вставленным восковым огарком. Измерив глазами всю опасность предстоящей задачи, я запустил ложку с толстого наружного основания желейного венца и торжественно положил свою добычу на тарелку. Затем слуга, обойдя хозяйку, поднес блюдо Тургеневу, за манипуляциями которого я стал смотреть во все глаза. Этот простодушно-неосторожный человек, не боясь, вероятно, обременить желудок желеем, смело рассек ложкою венец и положил себе порядочный кусок на тарелку. Но в тот же миг концы, подходящие к бреши, дрожа, повалились на огарок, затрещавший и пустивший струйку копоти. При этом Тургенев так жалобно посмотрел на меня, что только при помощи энергических усилий я воздержался от душившего меня смеха. Молодой Онухтин проводил нас в свои комнаты и долго еще расточал нам свои любезности,
- А вы, батюшка, - сказал Тургенев, обращаясь ко мне после ухода молодого хозяина, - целый вечер без галстука.
Оказалось, что, меняя белье, я второпях забыл надеть галстук.
После сладкого отдыха нам прислали наверх чаю и кофею, и мы собирались уже поблагодарить хозяев и отправиться в дальний путь, но молодой хозяин объявил, что "мамаша и слышать не хочет о том, чтобы мы уехали без завтрака". Делать нечего; приходилось скрепя сердце ждать. Должно быть, ввиду нашего нетерпения поторопились с завтраком, и в И час. мы сошли в гостиную к круглому столу перед диваном, покрытому всевозможными яствами, начиная с превосходных пикулей и грибков до жареной печенки в сметане, молодого рассыпчатого картофеля и большого блюда с телячьими котлетами, плавающими в сочном бульоне. В те времена я редко отказывался от съестного. Когда я добирался до котлет, в комнату вошел слуга с раскупоренной бутылкой редерера и стал наливать бокалы.
- Господа, пью за ваше здоровье и благодарю за доставленное мне удовольствие вашим посещением, - сказала хозяйка, подымая бокал. Стоящий тут же у стола семи- или восьмилетний мальчик в туго накрахмаленной, колокольчиком торчащей рубашке тоже высоко поднял свой бокал и воскликнул:
- Иван Сергеевич, честь имею вас поздравить.
Я видел, как родительница дернула его сзади за торчащую рубашечку, и, сообразив, что попал не туда, мальчик на некоторое время остался с поднятым бокалом, в виде неуместного знака восклицания.
Колокольчик нашей коренной побрякивал уже у крыльца.
- Позвольте вас поблагодарить, - заговорили мы.
- Ах, нет, нет! - возразила хозяйка. - Надо прежде уложить с вами закуску.
- Ради бога, этого не делайте, - говорили мы с Тургеневым в одни голос, в то время как лакей убирал кушанье.
- Нет, нет! Это одна минута.
Твердо уверенные, что доводы наши одержали верх, мы, простясь с любезными хозяевами, пустились в путь.
- Господи! - восклицал Тургенев, когда тарантас наш покатил по песчаной дороге, закрепленной вчерашним дождем. - Чего только не делает наше русское гостеприимство! Ну мыслимо ли, чтобы в нормальном состоянии я, с моим вечным страхом перед холерой, пил в одиннадцать часов утра шампанское? - И все это Тургенев восклицал таким тоном, как будто все это гибельное для его желудка русское гостеприимство не только находило себе усердную защиту в моем старообрядстве, но даже как бы исходило из меня.
Хотел было уже я для сравнения с нашими обильными яствами сопоставить скудное убожество немецкой, французской и итальянской кухни с ее прозрачными листиками ветчины, но в это время тарантас наш стал так круто спускаться в долинку, за которой начинался красный лес, что было не до споров, а нужно было упираться ногами, чтобы не скатиться с своего места. Упираться приходилось в довольно обширный сундучок в кожаном чехле. Без этого сундучка, содержавшего домашнюю аптеку, Тургенев никуда не выезжал, видя в нем талисман от холеры. Толкаемый на корявом спуске Тургеневым и толкая его, в свою очередь, вдруг слышу пронзительный его фальцет:
- Боже мой! что же тут такое?
Тогда только, откинув совершенно фартук и взглянув себе под ноги, я увидал следующее зрелище: услужливый и сообразительный слуга, получивший на чаек, завязал все блюдо с котлетами в салфетку и поставил на аптечку. При утраченном тарантасом равновесии вся обильная подливка сквозь салфетку облила драгоценный ящик.
- Стой! Стой! Стой! - кричал Тургенев кучеру, спустившемуся уже в долипку. Развязавши узлы пропитанной жиром салфетки, я увидал на блюде сбившиеся в кучку котлеты. Хотя от смеха я едва владел руками, тем не менее воспользовался кусочком газет, которыми Тургенев стал усердно вытирать драгоценную аптеку, и, прикрывши этой бумажкой свое левое колено, прижал на нем пальцами котлеты и держал их на весу до тех пор, пока Тургенев, вылезши из тарантаса, не стал, согнувшись, таскать сначала блюдо, а затем салфетку по обильной росе, промывая таким образом то и другое. Во время всей этой, весьма искусно им выполняемой, операции, при которой ему приходилось сильно изгибаться, он не переставал кряхтеть и повторять одну и ту же фразу: "Господи! проклятое русское гостеприимство!"
Наконец блюдо и салфетка были по возможности вымыты; я положил и завязал спасенные мною котлеты, и мы тронулись в путь. К вечеру мы приехали в окруженное лесами селение Щигровку, где остановились во дворе давно знакомого Тургеневу охотника. Помещение, невзирая на местную дешевизну строевого леса, было самое заурядное в крестьянском быту и состояло из довольно просторной избы направо и так называемой чистой горницы налево, которую хозяева уступили нам. Не помню даже, была ли эта горница с мощеным полом или с земляным, наподобие избы, находящейся через сени. Рассматривая от скуки, по моему обыкновению, лубочные картины и стены, я нашел на правой дверной притолоке в нашей горнице четко написанное хорошо знакомым мне почерком: "Тургенев". Если эта изба цела, то я уверен, что и эта ясная надпись карандашом сохранилась.
Хозяин Григорий и брат его Иван, конечно, оба превосходно знали окрестное полесье и попеременно служили нам проводниками - иногда единовременно оба, разводя нас группами в разные стороны. Конечно, Тургенев еще с вечера сделал все распоряжения, и я заранее объявил, что, стараясь ни в каком случае не мешать Тургеневу, буду тем не менее держаться того же вожака, что и он.
Когда Тургенев объяснял строгому своему Афанасию, смотревшему на ружейную охоту как на дело далеко не шуточное, - что Григорий и Иван оба обещают много тетеревиных выводков, Афанасий скептически повторял свою обычную фразу: "Не верьте вы мужику! Ну что мужик понимает!"
На другое утро часов в пять, напившись чаю и кофею и сунувши в ягдташи съестного и, между прочим, спасенные мною котлетки, мы на двух тройках отправились но указанию наших вожаков по лесным дорожкам и перелескам.
- Стой! - крикнул наконец нашему кучеру Григорий, и мы с Тургеневым вылезли из тарантаса, забирая тщательно приготовленные ружья и снаряды, и пустились за Григорием в кусты, разбросанные но заросшим травою так называемым гарям (прежним лесным пожарищам). Расходясь в разные стороны, мы должны были, чтобы окончательно не потерять проводника, от времени до времени кричать ему: "Гоп, гоп!" - не слишком отдаляясь от его отклика. С Непиром моим, пересланным мне в Москву любезным Громекою с Волховской станции, мне не удавалось до сих пор охотиться в течение двух лет, и я боялся, зная горячность собаки, помешать Тургеневу. Несмотря на мои свистки, Непир носился как угорелый. Но вот на большом кругу он вдруг остановился и замер. Конечно, я не заставил себя ждать и прямо пошел к остановившейся собаке. Вдоволь нагладившись по его блестящей черной спине, я, приготовивши ружье, стал подвигаться по направлению его носа, и вдруг с шумным хлопаньем из росной травы поднялся черныш. Грянул мой первый выстрел, и черныш покатился в траву. Конечно, я был в восторге от своего почина.
Не берусь день за день и удар за ударом описывать наших более или менее удачных полеваний, ограничиваясь воспоминаниями о моментах более мне памятных.
В то время еще не было в употреблении ружей, заряжающихся с казенной части, и Тургенев, конечно, был прав, пользуясь патронташем с набитыми заранее патронами, тогда как я заряжал свое ружье из пороховницы с меркою и мешка дробовика, называемого у немцев Shorot-Beutel, причем заряды приходилось забивать или нарубленными из шляпы кружками, или просто войлоком, припасенным в ягдташе. У меня не было, как у Тургенева, с собою охотников, заранее изготовляющих патроны; а когда при отъезде на охоту необходимо запасаться, сверх переменного белья, всеми ружейными принадлежностями, то отыскивать что-либо в небольшом мешке весьма хлопотливо и неудобно, и Борисов очень метко обозвал это занятие словами: "тыкаться зусенцами". Конечно, такое заряжение шло медленнее, и когда Тургеневу приходилось поджидать меня, он всегда обзывал мои снаряды "сатанинскими". Помню однажды, как собака его подняла выводок тетеревей, по которому он дал два промаха и который затем налетел на меня. Два моих выстрела были также неудачны навстречу летящему выводку, который расселся по низкому можжевельнику, между Тургеневым и мною. Что могло быть удачнее такой неудачи? Можно ли было выдумать что-либо великолепнее предстоящего поля? Стоило только поодиночке выбирать рассеявшихся тетеревей. Тургенев поспешно зарядил свое ружье, подозвав к ногам Бубульку, и кричал издали мне, торопливо заряжавшему ружье: "Опять эти сатанинские снаряды! Да не отпускайте свою собаку! Не давайте ей слоняться! Ведь она может наткнуться на тетеревей, и тогда придется себе опять кишки рвать".
Помню случай, о котором мне до сих пор совестно вспоминать.
Угомонившийся Непир стал необыкновенно крепко держать стойку. Право, казалось, что, если его не посылать, он полчаса и более, не тронувшись с места, простоит над выводком. Давно уже не приходилось мне ни самому стрелять, ни слышать за собою выстрелов Тургенева. Жара стояла сильная, и утомление при долгой неудаче давало себя чувствовать. Вдруг, гляжу, шагах в пятидесяти передо мною, на чистом прогалке между кустами стоит мой Непир, а в то же самое время слышу за спиною в лощине, заросшей молодою березовой и еловою порослью, голос Тургенева, кричащего: "Гоп! Гоп!" Бросивши собаку, я иду на край ложбины и кричу в ее глубь: "Гои, гоп! Иван Сергеевич!" Через несколько минут слышу близкое: "Гоп, гоп!" и крик Тургенева: "Что такое?"
- Идите стрелять тетеревей! - кричал я. - Моя собака стоит.
Когда Тургенев вышел из чащи, мы оба отправились к черневшемуся вдали Непиру.
- Идите поправее от собаки, а я пойду полевее, - сказал я. Так мы и сделали.
Умница Бубулька по окрику Тургенева пошла за его пятой. Когда мы с обеих сторон стали опережать собаку, из лежащего между нами куста с хлопаньем поднялся старый черныш, и Тургенев стал в него целить. Поднял ружье и я; и мне почему-то показалось, что Тургенев упускает его из выстрела. Этого истинного или подложного мотива было достаточно, чтобы я нажал спуск. Грянул выстрел, и черныш упал.
- А еще вызывал стрелять, - сказал Тургенев, - да сам и убил!
Приводите какие хотите объяснения: поступок остается все тот же.
Помню, что в первый день мы охотились в два приема, то есть вернулись к часу, на время самой жары, домой к обеду, а в пять часов отправились снова на вечернее поле. В первый день я, к величайшей гордости, обстрелял всех, начиная с Тургенева, стрелявшего гораздо лучше меня. Помнится, я убил двенадцать тетеревей в утреннее и четырех - в вечернее поле. Чтобы облегчить дичь, которую мы для ношения отдавали проводникам, мы потрошили ее на привале и набивали хвоей. А на квартире поваренок немедля обжаривал ее и клал в заранее приготовленный уксус. Иначе не было возможности привезти домой дичины.
Нельзя не вспомнить о наших привалах в лесу. В знойный июльский день при совершенном безветрии открытые гари, на которых преимущественно держатся тетерева, напоминают своею температурой раскаленную печь. Но вот проводник ведет вас на дно изложины, заросшей и отененной крупным лесом. Там между извивающимися корнями столетних елей зеленеет сплошной ковер круглых листьев, и когда вы раздвинете их прикладом пли веткою, перед вами чернеет влага, блестящая, как полированная сталь. Это лесной ручей. Вода его так холодна, что зубы начинают ныть, и можно себе представить, как отрадна ее чистая струя изнеможенному жаждой охотнику. Если кто-либо усомнится в том, как трусивший холеры Тургенев упивался такою водою, то я могу рассказать о привале в этом смысле гораздо более изумительном.
После знойного утра, в течение которого неудачная охота заставляла еще сильнее чувствовать истому, небо вдруг заволокло, листья, как кипящий котел, зашумели под порывистым ветром, и косыми нитями полился ледяной, чисто осенний дождик. Случайно мы были с Тургеневым недалеко друг от друга и потому сошлись и сели под навесом молодой березы. При утомительной ходьбе по мхам и валежнику мы, конечно, старались одеваться как можно легче, и понятно, что наши парусиновые сюртучки через минуту прилипли к телу. Но делать было нечего. Мы достали из ягдташей хлеба, соли, жареных цыплят и свежих огурцов и, предварительно пропустив по серебряному стаканчику хереса, принялись закусывать под проливным дождем. Снявши с себя фуражку, я с величайшим трудом ухитрился закурить папироску, охраняя ее в пригоршне от дождя. Некурящий Тургенев был лишен и этой отрады. Мокрые, на мокрой земле, сидели мы под проливным дождем.
- Боже мой! - воскликнул Тургенев. - Что бы сказали наши дамы, видя нас в таком положении!
Через час дождик перестал, и мы, потянувши к нашим лошадям, вскорости обсохли.
Нельзя не вспомнить с удовольствием о наших обедах и отдыхах после утомительной ходьбы. С каким удовольствием садились мы за стол и лакомились наваристым супом из курицы, столь любимым Тургеневым, предпочитавшим ему только суп из потрохов. Молодых тетеревов с белым еще мясом справедливо можно назвать лакомством; а затем Тургенев не мог без смеха смотреть, как усердно я поглощал полные тарелки спелой и крупной земляники. Он говорил, что рот мой раскрывается при этом "галчато-образно".
После обеда мы обыкновенно завешивали окна до совершенной темноты, без чего мухи не дали бы нам успокоиться. Непривычные спать днем, мы обыкновенно предавались болтовне. В этом случае известные стихи "Домика в Коломне" можно пародировать таким образом:
....................много вздору Приходит нам на ум, когда лежим Одни или с товарищем иным.
- А что, - говорит, например, Тургенев, - если бы дверь отворилась и вместо Афанасия вошел бы Шекспир? Что бы вы сделали?
- Я старался бы рассмотреть и запомнить его черты.
- А я, - восклицает Тургенев, - упал бы ничком да так бы на полу и лежал.
Зато как сладко спалось нам ночью после вечернего поля, и нужно было употребить над собою некоторое усилие, чтобы подняться в 5 ч. утра, умываясь холодной как лед водою, только что принесенной из колодца. Тургенев, видя мои нерешительные плескания, сопровождаемые болезненным гоготаньем, утверждал, что видит на носу моем неотмытые следы вчерашних мух.
Здесь позволю себе небольшое отступление, могущее, по мнению моему, объяснить в глазах читателя ту двойственность в воззрении на предметы, которую я иногда сам в себе подмечаю и которая происходит из того, что я теперь рассказываю о том, что происходило тогда.
В те времена еще все вещи были единичны и просты.
Жареный поросенок был простым поросенком и не был, как во времена римских императоров, начинен сюрпризами в виде воробьев или дроздов. Правда, я был страстным поклонником Тургенева, по меня приводили в восторг "Певцы" или раздающийся по заре крик: "Антропка! а-а-а! Поди сюда, черт, леший!" А ко всем возможным направлениям я был совершенно равнодушен, и меня крайне изумляло несогласие проповедей с делом. Так, помню, проезжая однажды вдоль Спасской деревни с Тургеневым и спросивши Тургенева о благосостоянии крестьян, я был крайне удивлен не столько сообщением о их недостаточности, сколько французской фразой Тургенева: "Faites ce que je dis, mais не faites pas ce que je fais"*.
* (Делайте то, что я говорю, по не делайте того, что я делаю (фр.))
Не менее поражала меня совершенная неспособность Тургенева понимать самые простые практические вещи, между тем как он, видимо, принадлежал к числу людей, добивавшихся практических изменений и устройств
Душевно радуюсь, что сохранившиеся в значительном количестве письма Боткина, Тургенева и Толстого помогут мне воспроизвести нравственные очерки этих писателей с гораздо большею точностью оттенков, чем воспроизведение былых наших разговоров, причем могут вкрасться оттенки, и не вполне верные действительности.
Говоря о Спасском, я принужден говорить и обо всех его тогдашних обитателях, во главе которых стоит глубоко мною уважаемый старик, дядя Ивана Сергеевича - Н. Н. Тургенев.
Еще с первого знакомства даже шуточные выходки Л. Н. Толстого постоянно поражали меня своею оригинальностью. Так когда-то общие впечатления, производимые отдельным писателем нашего тогдашнего круга, он приравнивал к впечатлениям, производимым известными цветами. В настоящее время не могу припомнить цвет каждого из нас, но про меня, кажется, он говорил, что я светло-голубой. Так однажды, когда мы встали из-за стола в Новоселках и я стал рассыпаться в похвалах только что уехавшему домой Ник. Ник. Тургеневу, Л. Н. Толстой тоже воскликнул: "Он прелесть!" и, схвативши у кого-то зубочистку - перо в бисерном чехольчике, прибавил:
- В своем пышном белом галстуке и шелковой муаровой жилетке песочного цвета он - вот что!
Если вспомнить моду двадцатых годов на бисерные часовые цепочки, кошельки, то лучше нельзя было выразить всего общего тона Никол. Никол., что не мешало ему быть вполне хорошим, добрым и толковым человеком.
В четырнадцатом году, 16-ти лет от роду, только что произведенный в корнеты, он повел эскадрон кавалергардских рекрут на молодых лошадях в Париж, и, конечно, за такой долгий поход эскадрон пришел обученным полевой езде. В Париже, в числе прочей молодежи, познакомился он и с англичанами, сильно тогда нахлынувшими в столицу мира. Уже в то время Тургенев отличался той физической силой, которую сохранил до старости.
Посещая залу гимнастики, он, в свою очередь, стал вытягивать из стены машину, указывавшую по градусам силу каждого. Тургенев не токмо вытащил машину до последнего градуса, но совсем вырвал ее из стены. Англичане подхватили его на руки и понесли с триумфом.
Никогда не видав матери Тургенева, не стану воспроизводить о ней рассказов едва ли в этом случае беспристрастного Ивана Сергеевича. Повторю только слышанное мною от Ник. Ник., заведовавшего при покойной Тургеневой всем ее домом. При этом перескажу лишь то, что, по- моему, находится в прямой связи с дальнейшею судьбою ее семьи. Независимо от какого-то кресла в виде трона, она содержала при себе целый штат компанионок и гофмейстерин. При поездках в другие свои имения и в Москву она, кроме экипажей, высылала целый гардеробный фургон, часть которого была занята дворецким со столовыми принадлежностями. Изба, предназначавшаяся для ее обеденного стола или ночлега, предварительно завешивалась вся свежими простынями, расстилались ковры, раскладывался и накрывался походный стол, и сопровождавшие ее девицы обязательно должны были являться к обеду в вырезных платьях с короткими рукавами.
Если при такой домашней обстановке принять во внимание безотлучное пребывание в этой среде холостяков, то нечему удивляться, что Никол. Никол, и старший брат Ивана Сергеевича женились на камеристках Варвары Петровны, тогда как последствием сближения Ив. Серг. с крепостною прачкой была та, чрезвычайно на него похожая, 15-летняя дочь, с которою мы познакомились в Куртавнеле. Кто были те Белокопытовы, из коих на младшей женат был шестидесятилетний Пик. Ник. Тургенев и от которой у него были две девочки, я сказать не умею. Знаю только, что Ив. Серг. постоянно относился к ним весьма любезно и родственно, и фразу: "Дядя, ты не беспокойся: твои дети - мои дети" - я нередко слыхал из уст Ив. Серг.
Дамы эти иногда не только играли в зале на подаренном им Тургеневым пианино, но даже пели.
Однажды, когда Тургенев лежал в гостиной на самосоне, а я сидел подле него, в разговор наш врывалось из третьей комнаты довольно безыскусственное пение.
- Ведь вот, - проговорил кисленьким голоском Тургенев, - если бы ваши родственницы так пели, то вас бы это коробило. А меня это нисколько не трогает.
Я тотчас же подумал: "Меня это не трогает, так я об этом и не говорю". Что же касается до жены брата Ник. Серг., то И. С. ее терпеть не мог и часто вспоминал про нее, не стесняясь в выражениях. Это была немка из Риги, не признаваемая покойной Варв. Петр, в качестве невестки и в мое время проживавшая верстах в 10-ти от Спасского в селе Тургеневе.
Чета эта представляла одну из тех психологических загадок, которыми жизнь так любит испещрять свою ткань. Ник. Серг. в совершенстве владел французским, немецким, английским и итальянским языками. В салоне бывал неистощим, и я не раз слыхал мнение светских людей, говоривших, что, в сущности, Ник. Сергеевич был гораздо умнее Ив. Серг. Я даже передавал эти слухи самому Ив. Серг., понимавшему вместе со мною их нравственное убожество. У Ивана Сергеевича были большие изъяны; у него, как мы видели, не хватало формального математического и философского ума. Однажды он говорил мне: "На днях я просматривал свои берлинские философские записки. Боже мой! неужели же это я когда-то писал и составлял? Пусть меня убьют, если я в состоянии понять хотя одно слово".
Вспомним, что он добивался кафедры философии при Московском университете. Но зато Ив. Серг. был, как выражался про себя И. И. Панаев, "человек со вздохом". Невзирая на внешнее сходство двух братьев, они, в сущности, были прямою противоположностью друг друга. Насколько Ив. Серг. был беззаботным бессребреником, настолько Николай мог служить типом стяжательного скупца. Известно, что после смерти Варв. Петр. Николай приехал в Спасское и забрал всю бронзу, серебро и бриллианты, и все это они с женой берегли в тургеневской кладовой. Если справедливо, что Ник. Серг. в душе презирал поэзию, то нельзя сказать, чтобы он не чувствовал ее окраски, чему доказательством может служить переданный мне Ив. Сергеевичем разговор его с братом.
- Стоит ли, - говорил Ник. Серг., - заниматься таким пустым делом, которое всякий ленивый на гулянках может исполнить.
- Вот ты и не ленив, - отвечал Ив. С., - но даже одного стиха не напишешь, как Жуковский.
- Ничего нет легче, - отвечал Николай:
Дышит чистый фимиам урною святою.
- А ведь похоже, - говорил хохочущий Ив. Серг.
- Разгадайте, - нередко восклицал И. С., - каким образом брат мог привязаться к этой женщине? Что она чудовищно безобразна, в этом вы могли сами убедиться в нашем доме; прибавьте к этому, что она нестерпимо жестока, капризна и неразвита и крайне развратна. Достаточно сказать, что, ложась ночью в постель при лампе, она требует, чтобы горничная, раскрахмаленная и разодетая, всю ночь стояла посреди комнаты, но чтобы не произвести стука, босая. Вот и подивитесь! Ведь он ее до сих пор обожает и целует у нее ноги.
Когда я отправлялся в Спасское один, то ездил туда верхом вброд через Зушу, значительно сокращая дорогу, и приезд мой в Спасском сделался самым обычным явлением. Однажды, всходя на балкон, слышу усиленный, мелко дребезжащий звук, похожий на фырканье, и, вступая в гостиную, вижу, что дамы усердно надрезают и рвут на клоки темно-серый кусок нанки.
- Над чем это вы так трудитесь? - спросил я.
- Да вот Иван Сергеевич выписал из Петербурга больного студента для поправки на деревенском воздухе. Оказывается, что этот гость совершенно разут и раздет, и мы послали в Мценск взять нанки, чтобы у нашего деревенского портного заказать приезжему костюм1.
1 (Речь идет об И. Р. Родионове, с которым Тургенев познакомился в конце 1850-х гг.)
Вернувшийся с прогулки Ив. Серг. подтвердил известие, пояснив при этом, что он предназначает студента учителем сельской школы и переписчиком своих рассказов.
В последующие разы я увидал студента в нанковой паре уже за семейным столом, и любивший подшутить Ник. Ник. говорил:
- Право, наш молодец-то таки очень посмелел. Бывало, ждет, покуда скажут: "Не хотите ли вина?" А нынче рука-то сама далеко достает бутылку. Не знаю, какой толк из этого всего выйдет.
Как-то, проходя через небольшую комнату, я увидал жену Ник. Серг. Тургенева лежащею на диване с далеко выставленными ботинками, а нанкового студента сидящего на табурете и растирающего ей ноги. Однажды осенью, зайдя во флигель к Ив. Серг., я застал его в волнении.
- Я, - сказал он, - решился просить дядю, чтобы он выпроводил этого Рабионова, который мне опротивел своим нахальством. Мне он ничего не переписывает. В школьниках видит эклогу Виргилия: и приходил мне жаловаться на жену моего брата, будто бы разрушившую его нравственный мир.
Конечно, и Ник. Ник., говоря на ту же тему, воскликнул: "Вот, Иван всегда так! Сам невесть кого затащил в дом, а теперь дядя выгоняй! Что я за палач такой?"
Не знаю, как это случилось, так как я вскорости затем уехал в Москву, куда вслед за мною приехал и Ив. Сергеевич. Но для бедного Ник. Ник. штука эта разыгралась по без убытка. Не знаю, по болезни или по иной причине Рабионов продержался в Спасском до зимы, и когда пришлось отправлять его, стал просить у Н. Н. шубу, клятвенно заверяя, что доедет в ней только до Москвы, а затем прямо доставит ее в наш дом. Добросердечный старик согласился на просьбу, но пропавшая шуба дала повод Ив. Сергеев, к следующему куплету:
Рабионов! Рабионов! Вор и варвар, без сомненья, Redde rneas legiones!* Возврати чужую шубу!
* (Верни мои легионы (лат.))
Впрочем, И. С. Тургенев предлагал и следующий вариант:
Рабионов! Рабионов! Вор и варвар без изъятья, Redde meas legiones, Возврати чужое платье!1
1 ("А Родионов утащил шубу и удрал. - Хорош гусь, - писал Тургенев 5/17 марта 1862 г. из Парижа. - Надо бы написать uno complainte <жалобный стих (фр.)> - вроде<...>
Родионов, Родионов! Вар новейшего столетья! Redde meas legiones! Возврати чужую шубу!"
(Тургенев, Письма, т. IV, с. 352). Публикуя эти шуточные куплеты, Фет в первом случае процитировал их не точно)
Воспроизведение в данное время Спасского персонала было бы далеко не полно без домашнего доктора Порфирия Тимофеевича, правильнее - без вывезенного, еще при жизни матери, Тургеневым в Берлин крепостного фельдшера Порфирия, отпущенного на волю и получившего при возвращении в Россию патент зубного врача. При помощи этого патента он пользовался известной практикой в округе и благосклонно принимаем был в Спасском семейством Тургеневых. Толстый и отяжелевший, он иногда сопутствовал И. С. в ближайших охотах и в случае надобности мог составить желающему партию на биллиарде или в шахматы. Наивное вранье и попрошайство указывали в нем на бывшего дворового<...>
Тургенев был прав, предсказывая мне из Рима прелестное деревенское лето1. Действительно, лето пролетало в частых дружеских и совершенно безоблачных сближениях. С шахматным игроком и предупредительно любезным Борисовым Тургенев сблизился дружески и весьма часто день и два оставался ночевать в Новоселках.
1 (Тургенев писал из Рима 28 декабря 1857/9 января 1858 г.: "Если боги нам не позавидуют - мы проведем прелестное лето" (Тургенев, Письма, т. III, с. 184))
Однажды вечером, сидя на новой террасе перед вновь устроенной Борисовым цветочною клумбою, обведенною песчаной дорожкой, Тургенев стал смеяться над моей неспособностью к ходьбе.
- Где ж ему, несчастному толстяку, - говорил он, - с его мелкой кавалерийской походочкой сойти со мною. Это я могу сейчас же доказать на деле. Вот если десять раз обойти по дорожке вокруг клумбы, то выйдет полверсты, и если мы пойдем каждый своим естественным шагом, то я уверен, что кавалерийский толстяк значительно от меня отстанет.
Хотя я и до состязания готов был уступить Тургеневу пальму, но ему так хотелось явиться на глазах всех победителем, что мы пустились кружить по дорожке: он впереди, а я сзади. До сих пор помню перед собою рослую фигуру Тургенева, старающегося увеличить свой и без того широкий шаг; я же, вызванный на некоторого рода маршировку в пешем фронте, вследствие долголетнего обучения, конечно, делал шаг в аршин. Через несколько кругов Тургенев стал видимо отдаляться от меня, как я заметил, к общему удовольствию зрителей. Где источник этого удовольствия? Под конец состязания я на десятом кругу отстал на полкруга, что в целой версте представляло бы от 20 до 25-ти сажен. Явно, что Тургенев делал шаги более чем в аршин.
Но не одними подобными затеями наполняли мы с ним в Новоселках день. Окончив вчерне перевод "Антония и Клеопатры", я просил Тургенева прослушать мой перевод, с английским текстом в руках. Дамы ушли с работами в кабинет Борисова и заперли за собою дверь в гостиную, чтобы не мешать своим разговором нашему чтению. Ив. Серг. сидел на диване к концу овального стола, а я на кресле уселся спиною к свету. На этот раз мы прочитывали пятый акт и дошли до того места, где Клеопатра, припустив к груди аспида, называет его младенцем, засасывающим насмерть кормилицу.
На это Хармион, кончая стих, два раза восклицает:
"O, break! O, break!" - которое Кетчер справедливо, согласно смыслу, переводит:
О разорвись, разорвись, сердце!
Приняв во внимание неизменный мой обычай сохранять в переводах число строк оригинала, легко понять затруднение, возникающее на этом выдающемся месте. Помнится, у меня СТОЯЛО: "О разорвись!" Тургенев справедливо заметил, что по-русски это невозможно. Загнанный в неисходный угол, я вполголоса рискнул: "О лопни!" Заливаясь со смеху, Тургенев указал мне, что я и этим не помогаю делу, так как не связываю глагола ни с каким существительным. Тогда, как заяц с криком прыгающий над головами налетевших борзых, я рискнул воскликнуть: "Я лопну!" С этим словом Тургенев, разразившись смехом, сопровождаемым криком, прямо с дивана бросился на пол, принимая позу начинающего ползать ребенка. Дамы, слыша отчаянный крик Тургенева, отворили дверь, и уже не знаю, что подумали в первую минуту<...>
Пятого сентября, в именины жены Н. Н. Тургенева Елизаветы Семеновны, точно так же, как 9 мая в день именин самого старика, в Спасском постоянно бывал пир горою<...>
Часам к 12-ти во флигеле Ивана Сергеевича подавался завтрак, которого бы хватило за границей на целый ресторан, а, за невозможностью добыть во Мценске свежих стерлядей, к обеду, кроме прохладительной ботвиньи, непременно являлась уха из крупных налимов. Дядя, в новой, черной муаровой ермолке, могучий и веселый, всегда сам становился у верхнего конца стола, ловко рассылая уху гостям. Ив. Серг. садился всегда с одной стороны посередине стола, а мы с Ник. Ник. Толстым усаживались по правую и по левую его сторону. Зная нашу слабость и разделяя ее сам, Иван Серг. все время не забывал подливать нам в стаканы редереру.
- Странное дело, - сказал однажды при подобном случае Тургенев, - никогда я не замечал, чтобы Фет отказался от редерера. Ну а вы, граф, как? расположены ли к нему но временам или всегда?
С секунду промедлив ответом, Ник. Ник. самым добросовестным тоном ответил:
- Скорее всегда.
Сопоставление этих двух определений окончательно срезало Тургенева. С неудержимым хохотом повторяя: "Скорее всегда", - он со стула повалился на пол и некоторое время, стоя на четвереньках, продолжал хохотать и трястись всем телом.
Дворовые Спасского, по старой памяти, оканчивали вечер фейерверком на лужайке перед балконом<...>
В те времена Малоархангельский уезд еще славился изобилием болотной дичины, и если мы с Тургеневым ездили в его Малоархангельское имение Топки, впоследствии им проданное, то, конечно, главною целью Тургенева было удобно поохотиться, а никак не разбирать какие-либо свои экономические дела. Пролет болотной дичи почти совпадает с лучшим временем охоты на молодых тетеревей, с которой, как я рассказывал, мы только что вернулись. Вследствие этого и зная достоверно, что действие романа "Дворянское гнездо" перенесено Тургеневым в Топки, я до сего времени думал, что поездка в Малоархангельск совершена нами гораздо позднее; по увы! - развертывая сочинения Тургенева, я увидал пометку "Дворянского гнезда" - 1858 годом, вследствие чего не может быть ни малейшего сомнения, что вскорости после охоты на тетеревей мы с Тургеневым отправились в Топки. Описание старого флигеля, в котором мы останавливались, верное в тоне, весьма преувеличено пером романиста. По раскрытии ставней мухи действительно оказались напудренными мелом, но никаких штофных диванов, высоких кресел и портретов я не видал. А в одной из пустых комнат, вместо упоминаемой кровати под пологом, я увидал ткацкий станок, на котором крепостной ткач работал прекрасную пестрядь. Правда, что, худо ли, хорошо ли, нам приготовили обед, и старый слуга Антон, принарядившись в серый сюртучок, надел белые вязаные перчатки. После отмены даже крепостного права граф Л. Толстой говаривал: "Едете в заглазное имение, ни о чем не хлопочите. Садитесь только за стол в ваш определенный час, и вам подадут ваших обычных пять блюд". Действительно так и было во время крепостного нрава. В заглазное имение обыкновенно отправлялись на покой заслуженные старики - слуги, повара и т. д. Приезд господ, как звук трубы для бракованной лошади, был призывом к старинной деятельности и случаем отличиться.
На другой день нашего приезда в Топки Тургенев, предчувствуя, что к нему придут крестьяне, мучительно томился предстоящею необходимостью выйти к ним на крыльцо. Сетования эти до того мне надоели, что я вызвался выйти вместо него к крестьянам; и полагаю, что исполнил бы это, хоть не с большею пользой, но с большим достоинством. Я из окна смотрел на эту сцену. Красивые и видимо зажиточные крестьяне без шапок окружали крыльцо, на котором стоял Тургенев, и, отчасти повернувшись к стенке, царапал ее ногтем. Какой-то мужик ловко подвел Ивану Сергеевичу о недостаче у него тягольной земли и просил о прибавке таковой. Не успел Ив. Серг. обещать мужику просимую землю, как подобные настоятельные нужды явились у всех, и дело кончилось раздачей всей барской земли крестьянам. Само собою разумеется, что дело это оставалось на этом основании до отъезда Ив. Серг. за границу и приезда Ник. Ник. Тургенева в Топки. С каким добросердечным хохотом говорил он мне впоследствии: "Неужели, господа писатели, все вы такие бестолковые? Вы же с Иваном ездили в Топки и раздали там мужикам всю землю, а теперь тот же Иван пишет мне: "Дядя, как бы продать Топки?" Ну что же бы там продавать, когда бы вся земля осталась розданною крестьянам? Спрашиваю двух мужиков-богачей, у которых своей покупной земли помногу: "Как же ты, Ефим, не постыдился просить?" - "Чего же мне не просить? Слышу, - другим дают, чем же я-то хуже?"
Тридцатого октября Тургенев писал из Спасского:
"Пишу к вам две строки<...> чтобы, во-первых, испросить у вас позволения поставить у вас на дворе на несколько дней мой тарантас, а во-вторых, чтобы предуведомить вас о моем приезде в Москву к вам 5-го или 6-го ноября<...> До скорого свидания.
Ваш Ив. Тургенев".
Действительно, 5 ноября не успели мы окончить кофею, как у нашего крыльца прогремел знакомый мне тарантас, и в дверях передней я встретил взошедшего по лестнице Тургенева1. Входя в отведенный ему кабинет мой, он сказал, что, оправившись с дороги, выйдет нить чай к хозяйке.
1 (Судя по письму к М. Н. Толстой, которое было отправлено Тургеневым 5/17 ноября 1858 г. еще из Спасского, он мог быть в Москве только после 5 ноября)
За чаем он был, чувствуя себя здоровым, весел и сказал, что сегодня никуда не поедет со двора, а усядется писать письма и будет обедать дома и разве вечером куда-нибудь сбегает. Когда через несколько времени я вошел к нему, то не узнал своего рабочего стола.
- Как вы можете работать при таком беспорядке? - говорил Ив. Серг., аккуратно подбирая и складывая бумаги, книги и даже самые письменные принадлежности.
В 5 часов он нашел на столе суп-потрох, о котором с любовью вспоминал и за границей.
За исключением С. Т. Аксакова, не выезжавшего из дому по причине мучительной болезни, кто только не перебывал из московской интеллигенции у Тургенева за три дня, которые провел он в нашем доме.
Из Главы X
Наконец, после долгих сборов и обещаний, Тургенев приехал в Спасское, и мы, хотя с грехом пополам, поохотились с ним на куропаток и вальдшнепов. На одном из привалов он вдруг предался своей обычной забаве придираться к моей беспамятности с географическими именами, требуя, например, двадцати названий французских городов. На этот раз он требовал только пяти португальских, кроме Лиссабона. "Только пяти", - настойчиво прибавлял он. Назвав Опорто и Коимбру, я было стал в тупик, но вдруг вспомнил урок из арсеньевской географии, и язык мой машинально пролепетал: "Тавиро, Фаро и Лагос - портовые города". - "Ха-ха-ха! - вынужденно захохотал Тургенев, - какой ужасный вздор!" - "Очень жаль, что вы их не знаете", - сказал я, надеясь на своего Арсеньева, как на каменную гору. Тургенев достал памятную книжку и записал города. "Хотите пари?" - "Пожалуй, - отвечал я, - на бутылку шампанского!" - "Нет! - фальцетом протянул Тургенев: - Я хочу пробрать вас хорошенько, - на дюжину шампанского!" - " "Это значило бы пробрать вас!" - "Знаем мы эти штуки! - воскликнул Тургенев. - Это незнание в одежде великодушия". Мы ударили по рукам. На другой день Тургенев, подходя ко мне в бильярдной со старою книжкой в руках, сказал: "А ведь шампанское-то я проиграл, ведь вот они в самом деле, эти нелепые города".
Из Главы XII
Раза с два, в бытность мою у Тургенева в Петербурге, я видел весьма неопрятную серую смушковую шапку Шевченко на окошке, и тогда же, без всяких задних мыслей, удивлялся связи этих двух людей между собою1. Я нимало в настоящее время не скрываю своей тогдашней наивности в политическом смысле. С тех пор жизнь на многое, как мы далее увидим, насильно раскрыла мне глаза, и мне нередко в сравнительно недавнее время приходилось слышать, что Тургенев n'etait. pas un enfant de bonne maison*. Как ни решайте этого вопроса, но, в сущности, Тургенев был избалованный русский барич, что, между прочим, с известною прелестью отражалось на его произведениях. Образования и вкуса ему занимать было не нужно, и вот почему, познакомившись с тенденциозными жалобницами Шевченко, я никак не мог в то время понять возни с ним Тургенева. Впрочем, несмотря на мою тогдашнюю наивность, мне не раз приходилось изумляться отношениям Тургенева к некоторым людям. Привожу один из разительных тому примеров, которыми подчас позволял себе допекать в глаза Тургенева.
1 (С Т. Г. Шевченко Тургенев познакомился в феврале 1859 г. через своих петербургских знакомых Карташевских. В зиму 1859/60 г. он особенно часто встречался с поэтом. В 1875 г. Тургенев написал воспоминания о Т. Г. Шевченко, предназначавшиеся для пражского издания "Кобзаря" (Тургенев, Соч., т. XIV, с. 227 - 231))
* (не получил хорошего воспитания (фр.))
Однажды, когда я в Петербурге сидел у Тургенева, Захар, войдя, доложил: "Михаил Евграфович Салтыков".
Не желая возобновлять знакомства с этим писателем, я схватил огромный лист "Голоса" и уселся в углу комнаты в вольтеровское кресло, совершенно укрывшись за газетой. Рассчитывая на непродолжительность визита, я не ошибся в надежде отсидеться. Между тем вошедший стал бойко расхваливать Тургеневу успех недавно возникших фаланстеров, где мужчины и женщины в свободном сожительстве приносят результаты трудов своих в общий склад, причем каждый и каждая имеют право, входя в комнату другого, читать его книги, письма и брать его вещи и деньги1.
1 Фет весьма тенденциозно передает диалог Тургенева и Салтыкова-Щедрина о "недавно возникших фаланстерах". Имеется в виду так называемая "Слепцовская коммуна", к которой Салтыков относился неодобрительно, называя это предприятие "делом совершенно ребяческим" ("М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников". М., Гослитиздат, 1957, с. 338 - 339, 689)
- Ну, а какая же участь ожидает детей? - спросил Тургенев своим кисло-сладким фальцетом.
- Детей не полагается, - отвечал Щедрин.
- Тем не менее они будут, - уныло возразил Тургенев.
Когда по уходе гостя я спросил: "Как же это не полагается детей?" - Тургенев таким тоном сказал: "Это уж очень хитро", - что заставлял вместо хитро понимать нелепо<...>
Вдруг получаю следующее письмо Тургенева из Спасского 19 мая 1861:
"Fethie carissime*, посылаю вам записку от Толстого, которому я сегодня же написал, чтобы он непременно приехал сюда в теченье будущей недели, для того чтобы совокупными силами ударить на вас в вашей Степановке, пока еще поют соловьи и весна улыбается "светла, блаженно-равнодушна". Надеюсь, что он услышит мой зов и прибудет сюда. Во всяком случае, ждите меня в конце будущей недели, а до тех пор будьте здоровы, не слишком волнуйтесь, памятуя слова Гете: "Ohne Hast, Olmc Bast"1, и хоть одним глазом поглядывайте на вашу осиротелую Музу. Жене вашей мой дружеский поклон.
* (Дражайший Фет (ит.))
1 ("Без спешки и без отдыха" (нем.). Эта перифраза, из "Кротких ксений" Гете была использована Дружининым в качестве эпиграфа к журналу "Библиотека для чтения")
Преданный вам Ив. Тургенев",
<...>Невзирая на любезные обещания, показавшаяся из-за рощи коляска, быстро повернувшая с проселка к нам под крыльцо, была для нас неожиданностью; и мы несказанно обрадовались, обнимая Тургенева и Толстого1. Не удивительно, что, при тогдашней скудости хозяйственных строений, Тургенев с изумлением, раскидывая свои громадные ладони, восклицал: "Мы все смотрим, где же это Степановка, и оказывается, что есть только жирный блин и на нем шиш, и это и есть Степановка".
1 (Тургенев и Толстой приехали в Степановну 26 мая/7 июня 1861 г)
Когда гости оправились от дороги и хозяйка воспользовалась двумя часами, остававшимися до обеда, чтобы придать последнему более основательный и приветливый вид, мы пустились в самую оживленную беседу, на какую способны бывают только люди, еще не утомленные жизнью<...> После обеда мы с гостями строем отправились в рощицу, отстоявшую сажен на сто от дому, до которой в то время приходилось проходить по открытому полю. Там на опушке мы, разлегшись в высокой траве, продолжали наш прерванный разговор еще с большим оживлением и свободой. Конечно, во время нашей прогулки хозяйка сосредоточила все свои скудные средства, чтобы дать гостям возможно удобный ночлег, положив одного в гостиной, а другого в следующей комнате, носившей название библиотеки. Когда вечером приезжим были указаны надлежащие ночлеги, Тургенев сказал: "А сами хозяева будут, вероятно, ночевать между небом и землей, на облаках". Что в известном смысле было справедливо, но нимало не стеснительно.
Сколько раз я твердо решался пройти молчанием событие следующего дня по причинам, не требующим объяснений. Но против такого намерения говорили следующие обстоятельства. В течение тридцати лет мне самому неоднократно приходилось слышать о размолвке Тургенева с Толстым, с полным искажением истины и даже с перенесением сцены из Степановы! в Новоселки.
Из двух действующих лиц Тургенев, письмом, находящимся в руках моих, признает себя единственным виновником распри, а и самый ожесточенный враг не решится заподозрить графа Толстого, жильца 4-го бастиона, в трусости. Кроме всего этого, мы впоследствии увидим, что радикально изменившиеся убеждения Льва Николаевича изменили, так сказать, весь смысл давнишнего происшествия, и он первый протянул руку примирения. Вот причины, побудившие меня не претыкаться в моем рассказе.
Утром, в наше обыкновенное время, то есть в 8 часов, гости вышли в столовую, в которой жена моя занимала верхний конец стола за самоваром, а я в ожидании кофея поместился на другом конце. Тургенев сел по правую руку хозяйки, а Толстой по левую. Зная важность, которую в это время Тургенев придавал воспитанию своей дочери, жена моя спросила его, доволен ли он своею английскою гувернанткой. Тургенев стал изливаться в похвалах гувернантке и, между прочим, рассказал, что гувернантка с английскою пунктуальностью просила Тургенева определить сумму, которою дочь его может располагать для благотворительных целей.
- Теперь, - сказал Тургенев, - англичанка требует, чтобы моя дочь забирала на руки худую одежду бедняков и, собственноручно вычинив оную, возвращала по принадлежности.
- И это вы считаете хорошим? - спросил Толстой.
- Конечно; это сближает благотворительницу с насущною нуждой.
- А я считаю, что разряженная девушка, держащая на коленях грязные и зловонные лохмотья, играет неискреннюю, театральную сцену.
- Я вас прошу этого не говорить! - воскликнул Тургенев с раздувающимися ноздрями.
- Отчего же мне не говорить того, в чем я убежден, - отвечал Толстой.
Не успел я крикнуть Тургеневу: "Перестаньте!", как, бледный от злобы, он сказал: "Так я вас заставлю молчать оскорблением". С этим словом он вскочил из-за стола и, схватившись руками за голову, взволнованно зашагал в другую комнату. Через секунду он вернулся к нам и сказал, обращаясь к жене моей: "Ради бога извините мой безобразный поступок, в котором я глубоко раскаиваюсь". С этим вместе он снова ушел1.
1 (Конфликт произошел 27 мая 1861 г., казалось бы, из сугубо внешнего повода: разных взглядов на методы воспитания молодежи, Но ссора Тургенева и Толстого, чуть не приведшая их к барьеру, не явилась случайностью. Этот взрыв был подготовлен всей предшествующей историей их отношений, исполненных острых противоречий. Тургенев, еще не будучи знаком с автором "Детства" произведения, сразу покорившего его, испытывал огромный интерес к Л. Толстому. Его первые впечатления от знакомства с Толстым сильны и ярки. "Вы не можете себе представить, что это за милый и замечательный человек... - пишет он Анненкову в декабре 1855 г. - Я его полюбил каким-то странным чувством, похожим на отеческое" (Тургенев, Письма, т. II, с. 328). "Желаю следить за каждым Вашим шагом", - говорит Тургенев в одном из писем к Толстому. Тургеневу не безразлично окружение молодого писатели, его увлечения, интересы. Он испытывает боль, когда видит, что Толстой отвлекается от литературы, изменяет своему призванию. Его с полным правом можно назвать "добрым гением" Толстого. Из письма в письмо, как заклинание, Тургенев повторяет: "Идите своей дорогой", "Плывите на полных парусах", "Ваша сила не в морально-политической проповеди..." Но вместе с тем уже в первые недели знакомства обнаружилось их несходство, начались столкновения, полемика, приводившие к ссорам. Первая такая серьезная ссора произошла в феврале 1856 г. на обеде у Некрасова (см. в воспоминаниях Д. В. Григоровича). Постепенно между друзьями образовывается тот "овраг", который они до конца так и не смогли устранить, Тургенев часто пишет Толстому письма-исповеди, в них он пытается объяснить, в чем же причина размолвок, где коренится невозможность простых, искренних, доверительных отношении. В одном из писем к Толстому Тургенев очень близко к истине замечал: "Я<...> шел другой дорогой<...> Кроме собственно так называемых литературных интересов - я в этом убедился, - у пас мало точек соприкосновения; вся Ваша жизнь стремится в будущее, моя вся построена на прошедшем... Вы слишком от меня отдалены" (Тургенев, Письма, т. III, с. 13).

Рис. 26. Спасское-Лутовиново. Аллея, ведущая к пруду. Фотография
Отношения между Толстым и Тургеневым особенно ухудшились осенью 1859 г., во время их встреч в Спасском и в имении их общего друга - Фета. Столкновения рождала сама русская жизнь в предреформенную кризисную пору. Тургенев и Толстой не совпадали в самом главном - во взгляде на прогресс и цивилизацию, человеческий разум и стихийное "роевое" начало жизни, они расходились во взгляде на народ и его будущее. Толстой не просто не любил тургеневскую "фразу", "позу" (как утверждал сам Тургенев) - он не выносил даже самомалейшего проявления либерализма (кстати и в вопросах воспитания; ему претила благотворительность, в каких бы формах она ни проявлялась). Тургенев же категорически не принимал уже тогда проявившейся толстовской склонности к морализированию, считая, что эти тенденции ослабляют могучий талант Толстого. Наконец, Тургенев не принимал "нетерпимости" Толстого. Современникам бросалась в глаза эта "несовместимость" двух русских писателей, тянувшихся друг к другу и одновременно отталкивавших друг друга. Не случайно их имена появляются рядом и противопоставляются. Толстой в глазах современников - "сокрушитель" привычных норм жизни. Тургенев - художник, который "не претендует на создание философской доктрины..." - так пишет популярный в то время французский критик и публицист Мельхиор де Вогюэ в своей статье "Лев Толстой". "Толстой готовит нам массу неожиданностей... Он хочет перевернуть наше миросозерцание", - замечал он.
Письма, которыми обменялись Толстой и Тургенев сразу же после конфликта в имении Фета, не объясняют истинных причин ссоры. К сожалению, некоторые письма Толстого оказались утерянными и среди них письмо, отправленное в день ссоры, с вызовом на дуэль. С. А. Толстая излагает в своем дневнике содержание этого письма, в котором Толстой заявлял, что "желает стреляться по-настоящему и просит Тургенева приехать в Богослов, к опушке леса, с ружьями" (С. А. Толста я. Дневники, т. I, М., 1978, с. 509 - 510). Только по дневникам С. А. Толстой известно содержание другого, "примирительного", письма Толстого (от 23 сент. 1861 г.): "Если и оскорбил вас, простите меня, мне невыносимо грустно думать, что я имею врага" (там же, с. 511). Видимо, об этом же письме упоминается и в воспоминаниях А. А. Толстой - в них она приводит свой разговор с писателем о ссоре. "Могу вас уверить, - сказал он, покрасневши до ушей, - что моя роль в этой глупой истории была не дурная. Я был решительно ни в чем не виноват и, несмотря на свою сознательную невиновность, я написал Тургеневу самое дружеское примирительное письмо, но он отвечал на него так грубо, что невольно пришлось прекратить с ним всякие сношения" ("Воспоминания гр. А. А. Толстой". - "Толстовский музей", т. I, СПб., 1911, с. 16). Однако уже в письме к П. В. Анненкову (7/19 июня), рассказывая о "неприятном событии", произошедшем в имении Фета, Тургенев откровенно сознается: "Виноват был я, но взрыв был, говоря ученым языком, обусловлен... антипатией наших обеих натур..." (Тургенев, Письма, т. IV, с. 255).
Но как бы ни складывались отношения с Л. Толстым, Тургенев продолжал с участием, внимательно следить "за каждым шагом писателя", в ком видел надежду и гордость русской и мировой культуры (см. публикацию И. С. Зильберштейна "Парижские находки. Иван Тургенев, Лев Толстой, Анатоль Франс". - "Огонек", 1967, № 48, 49).
Все сохранившиеся письма, которыми обменялись Толстой и Тургенев после ссоры, собраны в сб. "Л. Н. Толстой. Переписка с русскими писателями", т. I, М., 1978. О примирении писателей, которое произошло в 1878 г., см. в воспоминаниях С. Л. Толстого, т. 2, наст. изд.)
Поняв полную невозможность двум бывшим приятелям оставаться вместе, я распорядился, чтобы Тургеневу запрягли его коляску, а графа обещал доставить до половины дороги к вольному ямщику Федоту, воспроизведенному впоследствии Тургеневым1<...>
1 (Ямщик Федот - персонаж из второй части "Отцов и детей")
Размышляя впоследствии о случившемся, я поневоле вспоминал меткие слова покойного Ник. Ник. Толстого, который, будучи свидетелем раздражительных споров Тургенева со Львом Николаевичем, не раз со смехом говорил: "Тургенев никак не может помириться с мыслью, что Левочка растет и уходит у него из-под опеки".
Из Главы XIII
Можно себе представить паше с женой удивление, когда в половине мая в гостиную к нам вдруг вошел Василий Петрович, бодрый и веселый, которого воображение паше давно привыкло видеть болеющим по разным европейским столицам. Не успели мы обнять его, как следом за ним появился и Тургенев1. Конечно, это была одна из самых радостных и одушевленных встреч, и наш Михайла употребил все усилия, чтобы отличиться перед знатоками кулинарного искусства. Редерер тоже исправно служил нам с Тургеневым, а ввиду приезда Боткина мы запаслись и красным вином, которого я лично не пил во всю жизнь.
1 (Тургенев приехал в Спасское 5/17 июня 1862 г. и пробыл там до 31 июля/12 августа)
От специальных литературных вопросов разговор мало-помалу попал в русло текущих событий. Так как мы все преисполнены живой веры в целебность охватившего страну течения, то о главном русле его между нами не могло быть разноречия и споров. Зато я помню, когда вопрос коснулся народной грамотности, я почувствовал потребность настойчиво возражать Тургеневу и жарко его поддерживающему Боткину. Меня поразил умственный путь, которым Тургенев подходил к необходимости народных школ. Если бы он говорил, что должно исправить злоупотребления, внесенные временем в народную жизнь, то я не стал бы с этим спорить. Но он, освоившийся со складом европейской жизни, представлял Россию каким-то параличным телом, которое нужно гальванизировать всеми возможными средствами, стараясь (употребляю собственное его выражение) буравить это тело всяческими буравами, в том числе и грамотностью1.
1 (Одним из условий общественного прогресса писатель считал распространение грамотности в России. В 1860 г. Тургенев был увлечен составлением Проекта программы Общества для распространения грамотности в России)
|
ПОИСК:
|
© I-S-TURGENEV.RU, 2013-2020
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://i-s-turgenev.ru/ 'Иван Сергеевич Тургенев'
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://i-s-turgenev.ru/ 'Иван Сергеевич Тургенев'