
В. Н. Житова. Воспоминания о семье И. С. Тургенева

В 1833 году, нескольких дней от рождения, я была, согласия моих родителей и по желанию Варвары Петровны Тургеневой, матери Ивана Сергеевича Тургенева принесена в дом ее и принята ею в качестве воспитанницы, или вернее приемной дочери, как то и будет видно из моих воспоминаний о семье Тургеневых. У Варвары Петровны я оставалась до дня ее кончины, последовавшей 16 ноября 1850 года, в Москве, на Остоженке в доме Лошаковского, против коммерческого училища.
При постели умирающей было нас двое: Николай Сергеевич, старший ее сын, и я.
Иван Сергеевич был в это время в Петербурге. Покойный Федор Иванович Иноземцев еще заранее почти определил день кончины Варвары Петровны. Почему не приехал Иван Сергеевич ранее, и был ли он своевременно извещен о близости кончины матери, не знаю (И. С. Тургенев уехал из Москвы в Петербурге конце октября 1850 г. Из письма его к В. Н. Житовой от 11 ноября 1850 г. (См. Приложение 1) видно, что за пять дней до кончины матери он и не подозревал об ее тяжелом, уже безнадежном состоянии. Письмо с известием, что мать умирает, он получил в самый день ее смерти, 16 ноября 1850 г., и писал в тот же день Полине Виардо, что выезжает в Москву немедленно. Однако прибыл он в Москву только на пятый день, 21 ноября вечером.).
Прибыл он в Москву вечером, в день похорон, когда мы уже вернулись с кладбища Донского монастыря, те погребена Варвара Петровна.
В течение 17 лет, которые я провела почти безотлучно при ней, многое пришлось мне видеть и слышать такого, что, как близкое к нашему общему любимцу Тургеневу, будет, надеюсь, не лишено интереса для его почитателей.
У меня счастливо сохранились письма Варвары Петровны, писанные ею мне в наши редкие разлуки, письма ее сыновей ко мне и письма близких к их семейству лиц
Вся эта переписка и альбом с заметками и обращениями к сыновьям (все рукою самой Варвары Петровны) послужили мне великою помощью при составлении настоящих записок и многое освежили в моей памяти. Полного хронологического порядка соблюсти я, конечно, не могла: приходилось и забегать вперед, и возвращаться назад, но точности и правдивости рассказа это препятствовать не могло.
В некоторых отрывочных рассказах о Варваре Петровне, попадавшихся мне в газетах и журналах текущего года, довелось мне прочесть, хотя и не всегда верные о ней анекдоты, но изображающие ее личностью далеко не симпатичною; таковою, по долгу правды, она, вероятно, покажется и из моих рассказов. Но как близкая ей когда-то, как пользовавшаяся ее любовью и любившая ее сама безгранично, я считаю обязанностью своею указать на те обстоятельства в жизни ее, которые могли бы пагубно подействовать и не на такую пылкую и гордую натуру, каковою была натура Варвары Петровны. То было время - то были и нравы.
Детство и молодость ее прошли при таких тяжелых, возмутительных условиях, что неудивительно, если все эти несчастия раздражили ее характер и заглушили в ней те хорошие наклонности, которыми ее природа наделила.
В ней текла кровь Лутовиновых, необузданных и в то время почти полновластных бар. Род Лутовиновых был когда-то знаменит в уезде и в губернии помещичьим удальством и самоуправством, отличавшими вовремя оно и не одних Лутовиновых.
В повести "Три портрета" и в рассказе "Однодворец Овсянников" Иван Сергеевич говорит именно о своих дедах. Мать Варвары Петровны, Катерина Ивановна Лутовинова, тоже не отличалась мягкостью характера, и если признавать закон наследственности, то, что называется врожденным, то нрав Варвары Петровны мог и поэтому одному быть из крутых. Но его нельзя было назвать и злым, так как в Варваре Петровне обнаруживались иногда порывы нежности, доброты и гуманности, свидетельствовавшие о сердце далеко не бесчувственном.
Ее эгоизм, властолюбие, а подчас и злоба развились вследствие жестокого и унизительного обращения с нею в детстве и юности и под влиянием горьких разочарований в старости.

В. П. Лутовинова (по мужу Тургенева). С портрета неизвестного художника
Овдовевши еще почти молодою, мать Варвары Петровны вторично вышла замуж за Сомова, тоже вдовца и отца двух взрослых дочерей. Катерина Ивановна никогда не любила своей дочери от первого брака и сделалась, под влиянием своего второго мужа, мачехой для Варвары Петровны и матерью для девиц Сомовых, ее падчериц. Все детство Варвары Петровны было рядом унижений и оскорблений, были случаи даже жестокого обращения. Я слышала некоторые подробности, но рука отказывается повторять все ужасы, которым подвергалась она. Сомов ее ненавидел, заставлял в детстве подчиняться своим капризам и капризам своих дочерей, бил ее, всячески унижал и, после обильного употребления "ерофеича" и мятной сладкой водки, на Варваре Петровне срывал свой буйный хмель. Когда же ей минуло 16 лет, он начал преследовать ее иначе - это был человек Карамазовского (старика) пошиба. Во избежание позора самого унизительного наказания за несогласие на позор, Варваре Петровне удалось, с помощью преданной ей няни, Натальи Васильевны, бежать из дома вотчима.
Всех подробностей побега я не слыхала. Известно мне только, что она пешком, полуодетая, прошла верст шестьдесят и нашла убежище в доме родного дяди своего, Ивана Ивановича Лутовинова, тогда владельца села Спасского.
Дядя принял ее под свою защиту и, несмотря на требования матери, не пустил ее обратно в дом вотчима.
Катерина Ивановна Сомова жила в Холодове; там же она и умерла. В рассказе "Смерть" ("Записки охотника") описаны ее последние минуты: барыня, заплатившая сама священнику за свою отходную, была родная бабка Ивана Сергеевича.
В доме своего дяди Варвара Петровна отдохнула от оскорблений и жестокостей. Дядя обращался с нею хорошо, хотя и был человек весьма суровый и скупой. Он, что называется, держал ее в ежовых рукавицах, и ока жила почти взаперти в Спасском. Покоряться его воле и причудам пришлось Варваре Петровне довольно долго. Ей было почти 30 лет, когда умер Иван Иванович Лутовинов.
Смерть его была скоропостижная, о ней ходили странные слухи. Я об этом ничего верного узнать не могла.
По смерти дяди, оставшись единственной наследницей большого состояния, Варвара Петровна вздохнула полной грудью свободного человека и очевидно сказала себе: - теперь я все могу!
Такой сильный характер, такой горячий темперамент, как ее, вырвавшись на простор из долгих тисков, мог легко проявить себя в тех порывах, в каких он и проявился. До сих пор для нее не существовало ни ласки, ни любви, ни свободы. Теперь ей досталась в руки полная власть, и она могла все это иметь.
Лично от Варвары Петровны рассказов о ее жизни в доме вотчима я не слыхала; но горькие воспоминания о том, что она испытала тогда, прорывались у нее иногда в разговоре.
- Ты не знаешь,- говаривала она мне часто,- что значит быть сиротою. Ты - сирота, но ты во мне имеешь мать, ты так окружена моею любовью и моими заботами, что не можешь сознавать своего сиротства.- Или: - Быть сиротою без отца и матери тяжело, но быть сиротой при родной матери ужасно. А я это испытала, меня мать ненавидела.
Вот что я нашла в одном из ее писем ко мне. Подлинник помечен 15 декабря 1848 года:
"Сироты не бывают долго детьми. Я сама была сирота и очень чувствовала, прежде других, свою пользу. Я была более сирота, нежели ты, потому что у тебя есть мать, а у меня не было матери; мать была мне как мачеха. Она была замужем, другие дети, другие связи я была одна в мире".
По смерти дяди и уже будучи лет тридцати с лишком Варвара Петровна вышла замуж за Сергея Николаевича Тургенева. О нем я слышала только, что он был ангельской доброты, а о красоте его мне несколько упоминал, сама Варвара Петровна (Ни в письмах И. С. Тургенева, ни в воспоминаниях его современников, сохранивших многие высказывания писателя, мы не нашли подтверждения слов В. Н. Житовой о доброте Сергея Николаевича Тургенева.).
Когда-то и где-то за границей Сергей Николаевич Тургенев был представлен одной из владетельных принцесс Германии. Несколько лет спустя Варвара Петровна пила воды в Карлсбаде; там же находилась в то время и та самая принцесса. У источника случилось им стоять невдалеке друг от друга, и когда Варвара Петровна протянула, с кружкой руку, на которой был браслет с портретом мужа, принцесса взяла ее за руку со словами: "Вы - жена Тургенева, я его помню. После императора Александра 1, я не видала никого красивее вашего мужа".
Вышедши замуж, Варвара Петровна зажила тою широкою, барскою жизнью, какою живали наши дворяне в былые времена. Богатство, красота ее мужа, ее собственный ум и умение жить привлекли в их дом все, что было только знатного и богатого в Орловской губернии. Свой оркестр, свои певчие, свой театр с крепостными актерами - все было в вековом Спасском для того, чтобы каждый добивался чести быть там гостем.
И настолько была умна и приятна,- скажу даже больше, обаятельна,- Варвара Петровна, что не будучи ни красивою, ни молодою, даже с лицом, несколько испорченным оспой, она при всем том всегда имела толпу поклонников.
После долгих страданий и продолжительной неволи, сознание собственной силы развило в Варваре Петровне тот эгоизм и жажду власти, которые так многих из окружавших ее заставляли страдать.
Но своими помещичьими правами она никогда не пользовалась так грубо, жестоко, как это делали другие.
Она давала мучительно чувствовать свою власть, тяготевшую над всем окружающим ее, но при этом была даже любима. Можно сказать, что ее ласковый взгляд, ласковое слово осчастливливали тех, на долю которых они выпадали. В ней была смесь доброты с постоянным желанием испытывать на всех покорность ее воле; и горько доставалось тем, кто не беспрекословно повиновался ей.
У меня хранятся все ее письма, наполненные самыми горячими выражениями любви и заботы обо мне. Самая нежная мать не могла бы сильнее выразить любви своей к родной дочери. И со всем тем она и меня мучила, и мучила так же, как и всех, кто был близок к ней. Несмотря на это, я ее страстно любила, и когда я, хотя и редко, была в разлуке с ней, я чувствовала себя и одинокой, и несчастной. И тем, кто любил ее, кто был предан ей, доставалось горше всех.
Можно было думать, что она хотела выместить на других свое несчастное детство, свою подавленную под гнетом семейной обстановки молодость и дать другим испытать те же страдания, какие сама испытала.
И как все это постоянно мучило Ивана Сергеевича! И мучило его главным образом сознание того, что изменить он ничего не может, и всякое его вмешательство или заступничество приведет еще к худшему.
Воспоминания мои о семействе Тургенева начинаются с 1838 года,- года отъезда Ивана Сергеевича в Берлин (Окончив в июле 1837 года Петербургский университет (филологическое отделение философского факультета) со степенью кандидата, И. С. Тургенев для завершения образования направился в берлинский университет. Однако, кроме этой цели, были у него и другие, глубокие, внутренние причины, толкавшие его на отъезд из России. Вот как вспоминал он об этом 30 лет спустя:
"Тот быт, та среда и особенно та полоса ее..., к которой я принадлежал - полоса помещичья, крепостная - не представляли ничего такого, что могло бы удержать меня. Напротив: почти все, что я видел вокруг себя, возбуждало во мне чувства смущения, негодования, отвращения... Я не мог дышать одним воздухом, оставаться рядом с тем, что я возненавидел... Мне необходимо нужно было удалиться от моего врага затем, чтобы из самой моей дали сильнее напасть на него. В моих глазах враг этот имел определенный образ, носил известное имя: враг этот был - крепостное право. Под этим именем я собрал и сосредоточил все, против чего я решился бороться до конца, с чем я поклялся никогда не примириться, Это была моя Аннибаловская клятва... Я и на Запад ушел для того, чтобы лучше ее исполнить". (И. С. Тургенев, "Вместо вступления" к "Литературным и житейским воспоминаниям").
Тургенев выехал из Петербурга за границу на пароходе 15 мая 1838 года.). Некоторые события из этой эпохи особенно врезались в моей детской памяти.
Жили мы тогда в Петербурге, в доме Линева. Иван Сергеевич кончил курс в университете, а Николай Сергеевич был уже офицером конногвардейской артиллерии.
Семейство Тургеневых составляли, кроме самой Варвары Петровны, деверь ее, Николай Николаевич Тургенев, по смерти мужа ее, Сергея Николаевича, заведовавший до 1846 года всеми ее имениями, два ее сына, Николай и Иван Сергеевичи, я, как "fille adoptive", "l'enfant de la maison" (приемная дочь, свой ребенок) и еще троюродная племянница Варвары Петровны, Мавра Тимофеевна Сливицкая, бывшая замужем за профессором харьковского университета Артюховым. В доме жили часто сменяемые гувернантки из иностранок, учителя и учительницы музыки для меня.
Приживалок при мне у Варвары Петровны никогда не было. Да она и не принадлежала к числу тех барынь, которые могли довольствоваться подобострастием людей, обязанных ей куском хлеба. Ее властолюбие и требование поклонения ей простирались не на одну ее семью и не на один ее крепостной люд. Она властвовала над всем, что окружало ее и входило в какие-либо сношения с нею, и при этом она обнаруживала в себе редкую и часто непонятную нравственную силу, покоряющую себе даже людей, не обязанных ей подчиняться. Иногда достаточно было ее взгляда, чтобы на полуслове остановить говорящего при ней то, что ей не угодно было слушать. При ней своего мнения, несогласного с ее, никто высказывать и не смел. Один только Иван Сергеевич, ее любимец, и то в самых мягких, почтительных выражениях, скорее с мольбой, чем с осуждением, высказывал ей свои желания и соболезнования.
Гнет крепостного права, в особенности тяготевший в доме его матери, скорбно отзывался в душе столь известного по доброте своей Ивана Сергеевича, и ему было тем тяжелее, что бороться он отнюдь не мог. Доброта его, однако, иногда и без всякой борьбы подчиняла волю даже и Варвары Петровны. При нем она была совсем иная, и потому в его присутствии все отдыхало, все жило. Его редких посещений ждали, как блага. При нем мать не только не измышляла какой-нибудь вины за кем-либо, но даже и к настоящей вине относилась снисходительнее; она добродушествовала как бы ради того, чтобы заметить выражение удовольствия на лице сына. И какой это был нежный и любящий сын в тот год, как я начала его помнить! Чувства его к матери несколько изменились впоследствии, на моих еще глазах. Причины такой перемены выяснятся сами собою из дальнейшего. В начале же 1838 года, или в конце 1837, когда Варваре Петровне сделали весьма серьезную операцию, я из уст очевидцев слышала, какими нежными заботами он окружал мать, как просиживал ночи у ее постели.
Весь 1838 год, по болезненному состоянию Варвары Петровны, мы жили совсем уединенно. Ежедневными посетителями были Арендт и Громов, доктора-знаменитости того времени. Весьма часто навещали нас Родион Егорович Гринвальд, бывший товарищ покойного Тургенева-отца, и Василий Андреевич Жуковский, которого я тогда очень не любила за то, что почти к каждому его приезду я должна была выучивать стихи из его "Ундины" и декламировать перед ним. При этом я обнаруживала самую черную неблагодарность, так как он привозил мне всегда великолепные конфеты, а я, уничтожая их, тем не менее соображала своим пятилетним разумом, что за них придется опять вызубрить со слов самой Варвары Петровны несколько стихов из "Ундины".
С Иваном Сергеевичем в это время мы были в величайшей дружбе. Он очень любил меня, играл со мной, бегал по огромной зале, носил меня на руках, и сам еще был так юн, что не прочь был, не ради одной моей забавы, но и для собственного своего удовольствия, и бегать и школьничать. Одно из наших общих с ним школьничеств я живо помню.
Он почему-то тогда усиленно занимался греческим языком (Занятия Тургенева греческим языком в Петербурге зимою 1838 г. были подготовкой к университетским занятиям в Берлине. Он "мечтал давно" об этой поездке и тщательно к ней готовился. "В доказательство того, как недостаточно было образование, получаемое в то время в наших высших заведениях, приведу следующий факт: я слушал в Берлине латинские древности у Цумпта, историю греческой литературы у Бöка, а на дому принужден был зубрить латинскую грамматику и греческую, которые знал плохо",- вспоминал он в 1868 году. (И. С. Тургенев, "Вместо вступления" к "Литературным и житейским воспоминаниям".)). Каждое после-обеда кто-то приходил к нему и, к великому моему огорчению, в эти часы вход в его комнату мне воспрещался. Я только за дверью слушала какие-то непонятные звуки, выделываемые то голосом Ивана Сергеевича, то голосом его учителя или товарища. Но в изучении Аристофана и мне пришлось принять участие. Однажды он вздумал научить меня лягушечьему греческому языку (как он сам выражался). Познания мои заключались в том, что он заставил меня заучить следующие звуки: "Бре-ке-ке-кекс-коакс-коакс" (Благодаря знакомому мне классику, я убедилась, что память мне не изменила нисколько. Звуки, которыми мы так забавлялись с Иваном Сергеевичем, повторяются в комедии Аристофана "Лягушки" (прим. В. Н. Житовой).). Получив эти сведения из квази-греческого языка, я была ставлена им на стол, причем он придавал мне какую-то, вероятно, классическую позу с весьма вытянутой рукой, и заставлял меня повторять заученное, сначала протяжно, почти торжественно, а потом очень быстро и самым тонким, визгливым голосом. При этом мы оба заливались таким громким смехом, что представление наше часто обращало на себя внимание Варвары Петровны, выходившей нас унимать: "Finissez donc, Jean, vous gâtez la petite, vous en ferez un virago!" (Перестань, Иван, ты портишь девочку, ты делаешь ее разбойницей!).
Иногда же, в момент наших самых шумных увлечений при представлении выходила нас укрощать главная камер-фрейлина maman (маменьки.). Входила эта особа неслышною поступью, но строго и внушительно произносила: "Мамашенька приказали вам перестать!" Мы умолкали, и в мое утешение Иван Сергеевич сажал меня к себе на плечо и торжественно носил меня по комнате.
Все это происходило в то время, когда Иван Сергеевич был совсем юноша. Тогда он еще смеялся тем беззаботным, раскатистым смехом счастливого человека, и смех его был иногда так громок, что мать весьма строго и серьезно останавливала его: "Mais cesser donc, Jean, c'est même mauvais genre de rire ainsi. Qu'est ce que ce rire bourgeois!" (Перестань же, Иван, даже неприлично так хохотать. Что за мещанский смех!).

И. С. Тургенев. Акварель работы К. Горбунова. Берлин, 1838 г.
Часто после Варвара Петровна вспоминала этот его "мещанский смех", но я такого смеха по возвращении его из Берлина уже не слыхала. Говорят, он был очень веселый собеседник, т. е. именно веселый. Дома же я очень редко видала его таким.
День отъезда Ивана Сергеевича за границу я помню очень живо. Утром ездили мы все в Казанский собор, где служили напутственный молебен. Bapвара Петровна сидела все время на складном кресле и горько плакала. На пароход провожали его: мать, Николай Сергеевич и я. На обратном пути с пристани, когда Варвару Петровну посадили в карету, с ней сделался обморок.
Несколько дней спустя мы уехали в Спасское. Там получались письма от Ивана Сергеевича, служился благодарственный молебен за избавление его во время пожара на пароходе (Русский пароход "Николай", на котором Тургенев ехал за границу, сгорел в ночь на 19 мая 1838 г. в море около Травемюнде. См. об этом воспоминания И. С. Тургенева, написанные им в 1883 году: "Пожар на море".), и наконец был прислан из Берлина его портрет (Акварельный портрет И. С. Тургенева, писанный крепостным художником К. Горбуновым в 1838 г. в Берлине, впервые воспроизведен в январской книжке "Вестника Европы" за 1884 г. В декабре 1850 г., после смерти В. П. Тургеневой, портрет этот подарен был Тургеневым В. Н. Житовой. В настоящее время хранится в Государственном Литературном музее в Москве. См. стр. 29 настоящей книги.), рисованный акварелью (Копия с этого портрета помещена в январской книге "Вестника Европы" 1884 г., а оригинал хранится у автора воспоминаний (прим. В. Н. Житовой).). Сходство было поразительное. И теперь помню свой крик детского восторга: "C'est Jean!" (Это - Иван.), когда мне показали портрет. Варвара Петровна не расставалась с ним. Он всегда стоял на ее письменном столе, и когда она ездила по деревням или на зиму в Москву, она всегда собственноручно укладывала его в свою дорожную шкатулку. Она очень грустила в разлуке с сыном. У меня хранится и теперь ее альбом, помеченный 1839 и 1840 годами. Выписываю из него несколько строк, выражающих ее любовь к сыну и ее тоску по нем.
"1839. A mon fils Jean. C'est que Jean c'est mon soleil à moi, je ne vois que lui et lorsqu'il s'eclipse, je ne vois plus clair, je ne sais plus ou j' en suis. Le coeur d'une mère ne se trompe jamais et vous savez, Jean, que mon instinct est plus sûr que ma raison" (Сыну моему Ивану. Иван - мое солнышко. Я вижу его одного и, когда он уходит, я уже больше ничего не вижу и не знаю, что мне делать. Сердце матери никогда не ошибается и ты знаешь, Иван, чувство мое вернее рассудка.).

И. С. Тургенев. Портрет художника Лями (масло)
Где-то я прочла, что Варвара Петровна оставила сыну свой дневник. В 1849 году летом в Спасском, в цветнике против окон того самого Casino, имя и место которого сохранились и при Иване Сергеевиче, весь дневник и вся переписка Варвары Петровны были, по ее приказанию и в ее присутствии, сожжены, и я лично присутствовала при этом.
В 1849 и 50-м году она продолжала писать свой дневник карандашом (Приехав в Москву после смерти матери, Тургенев писал Полине Виардо 5 декабря 1850 г.: "Мы нашли дневник, писанный карандашом и относящийся к последним месяцам ее жизни". Через три дня он писал ей же: "С прошлого вторника у меня было много разных впечатлений. Самое сильное из них было вызвано чтением дневника моей матери. Какая женщина, мой друг, какая женщина! Всю ночь я не мог сомкнуть глаз. Да простит ей бог все. Но какая жизнь! Право, я совершенно потрясен". ("Вестник Европы", 1911, август, стр. 195-196).) и на отдельных листках. Спустя несколько дней после ее смерти листки эти Николай Сергеевич принес в кабинет покойной, затворил двери и прочел их громко. Слушателями были: его жена, Иван Сергеевич, и я. Где эти листки теперь, не знаю, но помню их содержание и думаю, что Иван Сергеевич никогда бы не захотел предать их гласности.
Бывают в иных семьях происшествия, остающиеся навсегда в памяти всех ее членов и близких к ней. Такого рода происшествием был пожар большого Спасского дома. Он сделался эрой в тургеневской семье, и потому обыкновенно говорили так: - это было до пожара, это было после пожара.
Случился пожар 3-го мая 1839 года.
Николай Сергеевич, старший сын Варвары Петровны, служивший в военной службе, был в этом году назначен ремонтером. Проездом в Лебедянь он заехал на несколько дней к матери, и в ночь пожара должен был отправиться в путь.
По случаю отъезда Николая Сергеевича ужин велено было подать ранее обыкновенного. В 9 часов старый буфетчик, Антон Григорьевич (Известный в "Муму" под именем дядя Хвост - человек замечательной трусости (прим. В. Н. Житовой).), уже накрыл на стол и вдруг несколько минут спустя вошел с корзинкой и начал в нее обратно класть со стола все серебро - вилки ножи и ложки.

Главный усадебный дом в Спасском-Лутовинове. С картины Я. Полонского (1881 г.)
- Что ты делаешь, Антон? - спросила Варваре Петровна,- ты пьян?
- Никак нет, сударыня, кушать нельзя-с.
- Как нельзя...- Но восклицание Варвары Петровны сопровождалось необыкновенным светом, озарившим всю комнату.
- Что это - молния?
В эту минуту вбежал Николай Сергеевич.
- Maman, бери деньги, бриллианты, все ценное; мы горим!
- Так это пожар? - все еще не верила Варвара Петровна.
- Да, да, скорей, maman,- торопил ее Николай Сергеевич. Я бросилась к Васильевне, а он выбежал из комнаты.
Оказалось, что первым загорелся левый флигель дома, где жила весьма старая и безногая уже старуха, нянюшка Варвары Петровны, Наталья Васильевна, та самая, которая способствовала побегу ее из дома вотчима.
В тревоге пожара все забыли о бедной старухе, один Николай Сергеевич вспомнил и поспешил ей на помощь. Вот что представилось глазам нашим, когда Варвара Петровна, держа меня за руку, вышла из загоравшегося уже дома: флигель был весь в огне, а с крыльца Николай Сергеевич выносил несчастную Наталью Васильевну.
- Ангел ты мой! спаситель ты мой! - кричала она: - брось ты меня! сам сгоришь, брось, батюшка!
Но подвиг Николая Сергеевича окончился благополучно: почти из пламени удалось ему спасти несчастную.
Старушка жила еще несколько лет после, и любимым ее рассказом всегда был рассказ о том, как "ангел- барин ее, ни на что ненужную старуху, вынес на своих барских ручках из огня и не дал ей помереть мученической смертью без покаяния!"
Когда мы вышли из дома, Варваре Петровне подали кресло, и она села возле паперти, и все, что выносилось из дома, клали возле нее. Спасать барское имущество явилось много охотников, но многие при этом не забывали и себя: так, один из крестьян совсем было унес шкатулку с двадцатью тысячами казенных денег, вверенных Николаю Сергеевичу на покупку лошадей.
1839-й год, кроме пожара, остался памятным в семье Тургеневых и в другом отношении. В этот самый год возникла любовь Николая Сергеевича к Анне Яковлевне Шварц (впоследствии жене его) и сблизила их вследствие того же самого пожара: Николай Сергеевич спас нянюшку матери из пламени, а Анна Яковлевна храбро вырвала из рук крестьянина похищенную им шкатулку с 20-ю тысячами. Воспользовавшись суматохой, вор успел убежать довольно уже далеко за чугунную ограду Спасской усадьбы. Анна Яковлевна догнала его, отняла у него шкатулку, и с этой, довольно тяжелой, ношей бросилась обратно к месту, где сидела Варвара Петровна, и тут же упала почти без чувств.
Много лутовиновского добра погибло в этот день. Почти все фамильные портреты сгорели, многое было разграблено: наружная лестница кладовой, в которой хранились драгоценные сервизы китайского и севрского фарфора и все серебро, была забыта, а потому и уцелело всего этого весьма мало.
Впоследствии, при расчистке пожарища, найдено было несколько слитков почерневшего серебра. Слитки эти приняли весьма причудливые формы и стояли потом в виде украшений на письменном столе Варвары Петровны.
Дом горел долго, и долго сидели мы около паперти. Когда крыша дома наконец рушилась, Николай Сергеевич подъехал к нам с фаэтоном, запряженным парою лошадей, усадил в него мать и меня и сам повез нас в Петровское, деревеньку версты за полторы от Спасского место рождения Варвары Петровны.
В то время маленький петровский домик уже давно был обращен в богадельню, где оканчивали свой век пять или шесть старушек разного звания. И Варваре Петровне пришлось теперь из своего богатого роскошного Спасского дома переселиться на время в жилище ею же призреваемых бедных.
В зале этого домика, в единственной незанятой комнате, был один только диван. С нежной заботой уложила меня Варвара Петровна на него, уверяя меня, что пожара больше не будет, и положила возле меня мою куклу, каким-то образом уцелевшую в моих руках.
Один правый флигель дома не сгорел, и потому немедленно было приступлено к отделке его для жилья. сделано было к нему несколько пристроек, так что соединении с уцелевшей каменной галереей, обращенной в библиотеку, помещение сделалось довольно просторное, и флигель получил даже название дома.
Когда Спасское, по смерти Варвары Петровны, перешло во владение Ивана Сергеевича, он проводил там почти каждое лето, и наружный вид дома нисколько не изменился до последнего времени (И. С. Тургенев владел Спасским-Лутовиновым после своей матери в течение 33 лет. Из них он живал в Спасском в летнее время, или хотя бы навешал это имение летом, только 17 раз. Дом в Спасском был заново отделан по распоряжению писателя весною 1881 г. к приезду поэта Я. П. Полонского, гостившего там с семьей. После смерти Ивана Сергеевича Спасское перешло по наследству к его дальней родственнице по матери О. В. Галаховой. Дом Спасской усадьбы сгорел в 1906 г.).
Когда мы в первый раз взошли в так называемый новый дом, меня поразила простота его внутренней отделки, и я долго вспоминала нашу малую гостиную старого дома с картинами на стенах вместо обоев и с роскошною мебелью, обтянутою желтой кожей. Спинки диванов и кресел этой мебели были черного дерева с украшениями бронзовой лепной работы. Украшения имели символический характер: целая вереница амуров и львов. Каждый амур вел за собой льва на цепи, перевитой цветами. И все это сгорело. Уцелело одно только огромное зеркало, да и тому, по громадности его, в новом доме места не нашлось. Оно было перевезено в Москву и до самой кончины Варвары Петровны помещалось в зале, где часто по красоте и величине своей было предметом удивления гостей. В последний раз видела я это зеркало уже после смерти Николая Сергеевича в доме г-жи Маляревской, племянницы жены Николая Сергеевича.
Прежде чем перейти к воспоминаниям о моей дальнейшей жизни в доме Варвары Петровны, позволю себе небольшое отступление. Некоторые рассказы о матери Тургенева, помещенные в журналах и газетах по смерти Ивана Сергеевича, вынуждают меня несколько остановиться на образе жизни Варвары Петровны и характере ее. Надеюсь, мои воспоминания уяснят его более и снимут с Варвары Петровны ту тень почти карикатурной эксцентричности, которую набрасывают на нее рассказы, почерпнутые из неверных источников, от людей, не живших с нею, не знавших или не понимавших ее, рассказы, перешедшие уже в область легенд, допускающих и преувеличение и добавление собственной фантазии.
Судя по одному из подобных рассказов, надо полагать, что с 40-го года, с которого я в общих чертах, за исключением только некоторых подробностей, все твердо и ясно помню,- надо полагать, что в ином Варвара Петровна будто опростилась (как позже выражался ее сын в "Нови"), а в ином - возвысилась.
Но желания изображать из себя владетельных особ я в ней никогда и прежде не замечала. Была она барыня-помещица, правда, властолюбивая и деспотка, давала себе волю капризничать, мучить, но в ней бывали и порывы великодушия, доброты, свойственные самым гуманным людям.
Держала она себя с гордым достоинством, требовала беспрекословного повиновения своей воле, но и ласковым словом дарила нередко своих любимцев.
Необыкновенно хладнокровно переносила она всякие материальные потери: пожар Спасского был великим убытком, но ни вздохов, ни стенаний от нее не слыхали (6 мая 1839 г. Варвара Петровна сообщала сыну из Мценска: "Когда я, слабая, больная женщина, без всяких приготовлений увидела, сидя на патэ в гостиной в 10 часов вечера, сыплющиеся на сад искры и вдруг озарившее зарево до самого Петровского, увидела, не слыхав прежде, что пожар на дворне, то тебя, мужчину, не имею, кажется, нужды долго приготовлять и могу прямо сказать... дом Спасский сгорел и обрушился... Спасское сгорело..." (И. Малышева, "Письма матери". Тургеневский сборник, изд. "Огни", Птр., 1915, стр. 44).). Однажды потонуло на перегруженных барках тысяч на сорок хлеба - она и бровью не повела. Комнат своих она "апартаментами" не называла, и, кроме пристройки, прозванной "Casino", остальные ее комнаты назывались самыми простыми именами. Внутренние комнаты были: спальня, уборная и гардеробная. Вход в эти покои дозволялся из женской прислуги ее главной горничной и двум ее помощницам; из мужской - только крепостному доктору Порфирию Тимофеевичу. И когда она была нездорова, то входил тоже туда дворецкий, главный конторщик и повар для приказа.
Сыновья входили к ней иногда в спальню, но предварительно спросясь, потому что Варвара Петровна была всегда необыкновенно чопорна и в туалете, и в обращении. В беспорядке она никому никогда не показывалась и даже больная в постели надевала нарядные négligé (утреннее платье.). Смолоду она, говорят, была дурна, но как старушку я ее знала почти красивою, всегда прекрасно, изящно одетою: чепчики из дорогого тюля, с густой оборкой и кокетливым цветным бантом сбоку. Капоты ее были причудливых, но изящных фасонов, а иногда даже такие оригинальные, что надо было быть именно такой "grande dame" (знатной дамой.), как она, чтобы быть при этом всегда distinguée (изысканной.), красивой и изящной.
Штат ее личной домовой прислуги был многочисленный, человек сорок, но никаких необыкновенных названий никто не носил. Был дворецкий, буфетчик, камердинер, конторщики, кассир, поверенный по делам, были и мальчики - но не "казачки" и без сердец на груди. Обязанность их состояла в том, что они стояли по дежурству у двери и передавали приказания барыни, или были посылаемы позвать кого-нибудь. Из женской прислуги одна только ее главная горничная носила название фрейлины или камер-фрейлины госпожи. Но это было в то время весьма обыкновенное название: у всех помещиц главная горничная называлась так. Остальные были: кастелянша, прачки, швеи, портнихи, пялечницы и просто девушки.
Управляющие были и немцы, и русские, и назывались своими крещеными именами, а одного из греков просто звали Зосимыч.- Позвать Зосимыча,- говаривала Варвара Петровна.
Вся ее прислуга, окружавшая ее, должна была быть грамотною, и одну даже девочку вместе со мной учили по-французски, а именно списывать с книги, потому что Варвара Петровна, читавшая только французские романы, любила делать из них выписки. Для этого собственно учили девочку французскому чтению и письму, и она должна была выписывать из книг места, отмеченные карандашом Варвары Петровны.
Почту два раза в неделю отвозил и привозил форейтор Гаврюшка. Правда, к дому он подъезжал с колокольчиком, но весьма не звонким, таким, какой я теперь каждую неделю слышу при отъезде нашей земской почты.
А возвысилась Варвара Петровна должно быть относительно лиц, допускаемых в ее присутствие. Так например, в жизнь свою я у Варвары Петровны не видала ни одного станового. Приезжали они по делу, но только в контору, при этом предварительно за версту или за полторы отвязывали колокольчик, чтобы не обеспокоить Варвару Петровну. В аристократическом доме ее для станового места не было. Я, конечно, разумею становых того времени, т. е. становых времени "Мертвых душ" и "Губернских очерков". С колокольчиком подъезжали к самому дому нашему только мценский исправник Шп-ский, которого Варвара Петровна очень любила. Уездный лекарь Петр Александрович Соколов подъезжал с колокольчиком к флигелю, потому что считался чином ниже исправника, и уже из флигеля приходил в дом.
В доме и в образе жизни Варвары Петровны соблюдался строгий порядок, все распределялось по часам. Даже голуби, которых она кормила и в Спасском, и в Москве, и те знали свой час: в 12 часов дня раздавался колокольчик, и они слетались получить свою порцию овса.
Варвара Петровна очень любила птиц, но не кур и вообще не дворовую птицу - эти пернатые имели свой птичий двор и довольно далеко от дома, чтобы своим кудахтанием и гоготанием не беспокоить ее. Птиц - канареек, чижей, щеглов и попугаев-неразлучников держала она в доме в изящных клетках.
По-русски говорила она только с прислугой, и вообще все мы тогда читали, писали, говорили, думали и даже молились на французском языке. Русские молитвы и катехизис Филарета я уже выучила, когда поступила в пансион г-жи Кноль и готовилась к экзамену. Мне тогда было 14 лет.
Утро мое начиналось с того, что я должна была, едва открыв глаза, громко произнести следующую молитву: "Seigneur, donnez moi la force pour résister, la patience pour souffrir et la constance pour persévérer" (Даруй мне, господи, силы, чтобы переносить, терпение в страдании и постоянство в стойкости.). Эти бессмысленно, машинально тогда мною повторяемые слова были как бы предреченьем к моей жизни. Много понадобилось мне силы, терпения и постоянства в стойкости.
Кроме того, я должна была каждое утро прочитывать громко главу из "Imitation de Jésus Christ" ("Подражание Иисусу Христу".) Фомы Кемпийского, и когда я была в разлуке с Варварой Петровной, она в письмах своих постоянно приказывала мне читать всякий день эту книгу.
Настолько французский язык и молитвы были у нас в употреблении, что, когда мы говели, то после "правил", читанных нам священником на дому, я читала еще молитвы перед св. причащением на французском языке.
Вскоре после пожара, а именно в конце июня, поехали мы с Варварой Петровной в Воронеж на богомолье. Проездом туда, в Ельце, на постоялом дворе, я заразилась настоящей оспой, и по этому случаю мы прожили в Воронеже около трех месяцев до моего совершенного выздоровления. Чуть ли не все воронежские доктора были приглашены лечить меня. Но жизнью и тем, что эта жестокая болезнь не оставила на мне никакого следа, обязана я уходу за мной главной камер- фрейлины Варвары Петровны, Агашеньки. Днем сама Варвара Петровна, Анна Яковлевна Шварц и еще кто- то безотлучно, попеременно сидели возле моей постели, а ночью Агафья, тогда девушка лет 20 с небольшим, ни на минуту не засыпала, чтобы не дать мне возможности тронуть лицо. Но это - малейшая из заслуг Агафьи относительно меня. Если б я описывала свою собственную жизнь, многое сказала бы я о ней, моей дорогой старушке. Я рассказала бы все, чем она была для меня, как она своим примером жены и самоотверженной матери повлияла благотворно на всю жизнь мою. Многое сказала бы я о тех жертвах, которые она приносила мне, одинокой сироте, когда после смерти Варвары Петровны я осталась одна в мире. Если не она, то пусть дети ее прочтут эти строки и еще больше полюбят ее за те муки, которые она из-за них претерпела, и за то, что в сердце ее, переполненном любовью к ним, нашлось еще место и для меня, питающей к ней самые горячие чувства любви и благодарности!
Агашенька и муж ее были самыми преданными слугами Варвары Петровны, а вместе с тем и первыми мучениками ее деспотизма. Но сыновья ее оба любили и уважали и Агафью и мужа ее, и в особенности Иван Сергеевич; до самой кончины своей он вел переписку с ними, и приезжая в Москву, уже после смерти матери, всегда вызывал к себе их, делал им щедрые подарки и требовал, чтобы даже всех детей их приводили к нему. Хотя все семейство вполне заслуживало расположения Ивана Сергеевича, но своим отношением к ним он точно хотел искупить и заставить забыть те страдания, которые они вынесли в доме его матери. Агафья Семеновна и теперь жива, а муж ее умер в 1879 году.
Агафья Семеновна, как звали ее все, 19-ти лет поступила в звание главной камер-фрейлины Варвары Петровны. В то время у всех богатых помещиков в дворне была своя аристократия, семьи которой из роду в род были более приближенными к своим господам. Такой аристократии в числе дворовых в тургеневском доме было особенно много, а во главе ее стояла Агашенька и муж ее, Андрей Иванович Поляков (По желанию детей их, в моих воспоминаниях даю этим лицам вымышленные имена (прим. В. Н. Житовой).), как секретарь и главный дворецкий. Поляков и некоторые другие, а в ом числе и Порфирий Тимофеевич Карташов, крепостной доктор Варвары Петровны, тот самый дядька, который сопровождал Ивана Сергеевича в Берлин,- все они выросли при молодых господах, при Николае и Иване Сергеевичах, не покидали их классной комнаты во время уроков и были более чем грамотные,- почти образованные люди. Порфирий Тимофеевич прекрасно говорил по-немецки, а Поляков говорил и писал по-французски, в совершенстве знал русский язык (В детские годы И. С. Тургенева Ф. И. Лобанов был его учителем. См. письмо И. С. Тургенева к дяде Н. Н. Тургеневу от 26 марта 1831 г. (Не опубликовано. Хранится в Рукописном отделе Библиотеки имени В. И. Ленина, фонд 306, кар. 2, № 160).) и даже когда-то писал стихи. Он был первым моим учителем русского языка, у него я выучилась читать и писать и четырем правилам арифметики, и во время уроков, происходивших тогда в присутствии моей гувернантки, француженки m-lle Tourniard (мадемуазель Турнийар.), он очень свободно объяснялся с нею по-французски. Все важные бумаги по имениям, все билеты и наличные тургеневские деньги были всегда под сохранением у Андрея Ивановича. На руках же у Агашеньки находились все остальные богатства Варвары Петровны. Белье, серебро, кружева, целые сундуки шитья по батисту и канве, плоды трудов так называемых кружевниц и пялечниц, которые зимою пряли тальки неимоверной тонины, а летом вышивали и плели кружева, все бриллианты, жемчуг, золотые вещи, сундуки с шалями, платками, шелковыми материями и проч.,- все хранилось под надзором честнейшей Агафьи Семеновны и предназначалось мне в приданое. Несколько лет уже состояли они при своих должностях, когда в 1842 году Варваре Петровне пришла фантазия сочетать браком своих первых по рангу и вернейших слуг. Ни тому ни другому брак этот на ум не приходил, нравились ли они друг другу - этого Варвара Петровна и не потрудилась спросить. Она этого пожелала, т. е. в переводе: приказала, следовательно, и быть тому.
Свадьба эта, однако, состоялась совсем не так, как прочие. Агашеньке была особая привилегия: ей шили приданое на деньги, подаренные ей самой Варварой Петровной, шили все в господском доме, в девичьей. В честь жениха и невесты в пристройке устраивались вечеринки, на которые собирались девушки и молодежь мужской прислуги. Пели песни, танцевали, угощались пряниками, конфетами и орехами - все на счет самой барыни, и нередко она сама выходила посмотреть на это веселье. Девичник накануне свадьбы отпраздновали а славу: соблюдены были все церемонии и обычаи, от жениха даже поднесена была невесте свадебная корзинка с лентами, духами, помадой и прочими атрибутами такого рода подарков, и все от щедрот Варвары Петровны. К венцу благословляла сама барыня образом в серебряной ризе, взятым из фамильной киоты Лутовиновых. Кроме приданого, невесте было подарено 500 рублей ассигнациями. Венчание было утром, и в зале господского дома был накрыт парадный стол, весь убранный цветами. За здоровье молодых пили настоящее шампанское, и первый тост провозгласила сама Варвара Петровна. Все эти щедроты и весь этот блеск были преддверием долгих годов мучения и горя!
Брак этот, неожиданный и по приказу, оказался однако, весьма счастливым. Оба они были умные, добрые и честные люди, и, вероятно эти хорошие качества послужили к полнейшему согласию между ними и повели их к завидному счастью в их супружеской жизни.
Когда у Агашеньки родилась первая дочь, Варвара Петровна очень заботилась о здоровье матери, дала ей время поправиться, не велела спешить ей возвратиться к ее обязанностям, но лишь только молодая мать появилась перед своей госпожей, ее встретило неожиданное горе.
- Как я рада, что ты опять при мне,- было первым словом Варвары Петровны,- без тебя все не так идет, никто мне не угодит, и я все недовольна. А теперь выбери себе в деревнях любую бабу в кормилицы своей девочке, и я ее отправлю в Петровское. При себе я ребенка тебе держать не позволю: какая ты можешь мне быть слуга с нею? ты постоянно будешь рваться к пей. Ее надо отдать кормилице, и я об этом распоряжусь.
Бедная мать остолбенела при этих словах, но возразить не дерзнула, да и смел ли кто возражать? Приговоры Варвары Петровны были безапелляционны.
Распоряжение отправить ребенка с кормилицей в ближайшую деревню было сделано, но не исполнено.
К счастью, а главное к чести всей многочисленной дворни Варвары Петровны, в ней не было наушников. Многое творилось не так, как она велела, многое от нее скрывалось, и не было случая, чтобы кто-либо донес ей том, что могло вызвать ее гнев.
Так и на этот раз: ребенок Агафьи Семеновны в деревню отправлен не был, и мать, находясь при барыне и день и ночь, сама кормила потихоньку свою девочку. Днем ее приносили окольными путями через сад во флигель, а ночью ее держали в пристройке, отделявшейся довольно большими сенями от дома, так что при растворенных дверях и окнах крики ребенка Варвара Петровна слышать не могла. Добрая моя гувернантка, мисс Блэквуд, занимала комнату в этой же пристройке часто сама вставала ночью, чтобы унять крикунью или чтобы потихоньку, почти беззвучно отворив двери, позвать мать, которая спала через комнату от спальни своей барыни.
Я раз чуть не накликала великую беду. Maman была нездорова и обедала позже обыкновенного в своей спальне. Агашенька сама прислуживала ей, а я, узнавши, что девочка в комнате англичанки моей, отправилась туда посмотреть на нее. В комнате никого не было, а в корзинке неистово кричала малютка, требовавшая свою мать. Сама я еще была настолько глупа, что вообразила, что если ее вынести на крыльцо, она утешится. Дело было летом. Я мгновенно схватила ее на руки и вышла. Крошка моя действительно на минуту умолкла, но, почувствовав обманутое ожидание, еще громче залилась. Дверь была отворена. Варвара Петровна услыхала крик.
- Что это такое? - И произнесено это было таким грозным голосом и с таким испытующим взглядом, устремленным на Агафью, что бедная мать помертвела, растерялась, не зная, что сказать. Отец же, как безумный, ринулся из дома, вырвал ребенка у меня из рук, зажал ей безжалостно рот рукою и стремглав бросился через сад во флигель. А я до того перепугалась, пришла в такое отчаяние, поняв всю необдуманность своего поступка, что даже теперь не помню, как миновала гроза. Знаю только, что долго после этого Варвара Петровна смотрела подозрительно и сурово на отца и на мать и в пристройку стала ходить каждый день.
И вот таким-то образом, постоянно в страхе и трепете, когда на крыльце, когда под дождем или на холоде, пришлось бедной Агафье выкормить трех детей. Для старших Варвара Петровна дала няньку, а меньшого постоянно приказывала отдавать любой крестьянке на прокормление. Несчастные малютки бывали больны, оставались в чужих руках, а бедная мать могла их видеть только раза два в день, когда отпускалась обедать, ужинать или пить чай. И теперь живо перед моими глазами лицо моей дорогой Агашеньки в эти ужасные годы ее жизни. Сколько раз видела я ее прекрасные, выразительные глаза, устремленные не то с мольбой, не то с укором на иконы.- За что, за что?- казалось, хотели произнести ее крепко сжатые губы.
Одна из ужаснейших драм в ее многострадальной жизни произошла после рождения ее третьей дочери.
В декабре в этот год Варвара Петровна выехала из Спасского в Москву, Агафья Семеновна должна была последовать за нею недели через две. При этом был отдан строгий приказ устроить детей в Спасском и с собой никого не привозить. Но наболевшее сердце бедной матери не могло уже перенести разлуку с такими крошечными детьми. В отчаянии своем она решила уже больше ничего не скрывать, не обманывать барыню, а взять с собой детей и открыто в этом признаться Варваре Петровне.
Зимой в декабрьские морозы привезла она их и поздно вечером подъехала к нашему московскому дому.
Варваре Петровне пришли доложить:- Обоз приехал из Спасского.
- А Агафья?
- Приехала-с,- был краткий ответ.
- Скажи ей, пусть отдохнет, а завтра утром чтобы к моему одеванию пришла.
На другой день утром, когда Варвара Петровна позвонила, на звонок ее взошла Агашенька. Никогда не видала я на ней ни прежде, ни после такого сурового, решительного лица, когда она, поцеловав у барыни руку, отошла на несколько шагов от ее постели.
- Ну, что, как приехала, что привезла? - спросила Варвара Петровна.
Агашенька молча подала реестр всех прошивок, кружев и всего сработанного в этот год пялечницами и кружевницами.
Варвара Петровна посмотрела, положила бумагу на стол.
- Хорошо, ступай! - и взяла чашку в руки.
Агафья сделала несколько шагов и остановилась у двери.
- Ступай,- повторила Варвара Петровна,- я позову.
- Сударыня,- произнесла Агафья, и голос ее дрогнул. Она тяжело дышала.
- Что тебе? - досадливо вскрикнула Варвара Петровна.
- Варвара Петровна! - продолжала Агафья более твердым, почти грубым голосом:- я привезла с собою всех своих детей... воля ваша... я не могла...
- Каких детей? Что такое ты мне сказала?
- Сударыня! - вскрикнула Агашенька и бросилась на колени,- ради самого Бога, позвольте мне их оставить здесь. Я вам буду служить, как служила, день и ночь буду при вас, только оставьте... чтобы я только знала, что они тут...
- Вон! - раздался голос Варвары Петровны.
- Воля ваша, я не уйду, делайте со мной, что хотите. Варвара Петровна! У вас у самих были дети маленькие, могут ли они без матери? Бога ради, одной вашей милости прошу, не отнимайте у меня детей! - и бедная женщина на коленях поползла к постели барыни.
- Вон!-был ей ответ.
- Я тут стояла, слезы лились у меня из глаз, и я только могла произнести: maman, maman!
- Comment osez-vous pleurer? Allez vous-en! (Как смеешь ты плакать? Пошла вон!) - обратился на меня гнев Варвары Петровны.
Я вышла, бросилась в коридор и неудержимо рыдала.
А из спальни раздавался бешеный крик Варвары Петровны. Он все усиливался, и я побежала в смежную комнату.
- Я все могу с тобой сделать, я тебя на поселение сошлю, детей твоих я сейчас в воспитательный дом отправлю!- слышалось из спальной.
- Хоть в Сибирь, хоть на поселение, а с детьми... детей нельзя... я не дам детей!- уже как-то бессвязно лепетала Агафья, все стоя на коленях.
Варвара Петровна сильно позвонила и закричала: - Девушки!
На зов ее взошли две горничные.
- Возьмите ее, выведите ее, тащите! - приказывала барыня.
Но в эту минуту Агафья уже ничего не сознавала, она была точно в исступлении.
Горничные взяли ее под руки, но она быстро встала на ноги, рванулась от них, и за ее рыданиями и за движением горничных я расслышала только слова: - Звери... и те своих детей...
- Молчать! - крикнула Варвара Петровна,- я тебя в часть велю отправить, ты у меня в остроге сгниешь!
- Куда хотите, а я их лучше задушу своими руками, а не отдам,- что им без матери!
- В часть, в часть, вон! - почти с пеной у рта кричала Варвара Петровна.- Что же вы?
Агафья все стояла, а призванные горничные точно окаменели.
- Агафья Семеновна, пойдемте,- шепнула наконец одна из них.
Несчастная женщина сделала шаг к двери, но вдруг опять повернулась лицом к барыне. На ее добром лице, в ее прекрасных глазах сверкнула злоба, и раздался уже опять звенящий, твердый голос:
- Были мы вам, сударыня, с мужем верные, усердные слуги, а теперь из-под палки мы не слуги!
Тут я увидала ужасную сцену. Варвара Петровна захрипела, бросилась с постели, одной рукой схватила Агафью за горло, а другою точно силилась разорвать ей рот, но тут же отпустила, почти упав на ближайшее кресло: с ней сделался нервный припадок.
Агафья вышла, стоявшие тут горничные уложили свою барыню на постель. Взошел доктор Порфирий Тимофеевич с лавровишневыми каплями.
Долго отпивалась Варвара Петровна каплями и померанцевой водой, и наконец был призван главный конторщик Леон Иванович (деверь Агафьи и дядя гонимых детей).
Заложив руки за спину, явился он перед лицом башни.
- Напиши приказ,- произнесла Варвара Петровнa,- здесь!
Конторщик вышел и через несколько минут принес бумагу, чернила и перо и под диктовку самой госпожи тал писать на комоде, стоявшем тогда в спальне Варвары Петровны и который в настоящую минуту у меня перед моими глазами, следующее (В отрывке из неоконченного романа, появившегося в печати под заглавием "Собственная господская контора", И. С. Тургенев упоминает Л. И. Лобанова: "В Собственной господской конторе постоянно заседал секретарь барыни Левон Иванов или, как его называла Глафира Ивановна, Léon. (Его в молодости выучили французскому языку и он довольно свободно на нем изъяснялся). ("Московский вестник", 1859, № 1, стр. 8).):
"В московскую домовую контору
Приказ.
Сегодня же, на подводах, приехавших вчера из Спасского, отправить обратно в Спасское Агашкиных трех детей. Для сопровождения их приказать собраться в дорогу Александре Даниловой, и о прибытии их на место немедленно известить меня".
Затем следовала подпись самой Варвары Петровны.
- Исполнить! - подтвердила она словесно.
Конторщик вышел.
Когда потом я явилась по зову Варвары Петровны, и она увидела мои заплаканные глаза, на меня посыпались ее упреки:
- Тебе всякая холопка дороже матери! Ты должна плакать о том, что меня не слушаются, до истерики меня доводят, беспокоят меня неповиновением, а ты о холопке да о холопских детях плачешь. Ты была и будешь бесчувственная тварь! Ты рада, когда меня терзают, ты не жалеешь, не любишь меня... я больна... а ты о холопке... в тебе ни любви, ни привязанности ко мне нет...
И опять истерика, опять доктор, капли, а я уж со всем была сбита с толку и пришла в отчаяние, что опять растроила maman своими слезами: и Агашеньку жаль, и точно сама себя в чем-то виноватой чувствую.
Наконец, прогнанная в наказание из спальни с глаз долой за свою неблагодарность и нечувствительность, я бросилась в девичью и на груди своей доброй, дорогой Агашеньки выплакала свое горе.
Но насколько было полно любви сердце этой прекрасной женщины! При всем своем горе, у ней нашлись слова утешения и ласки для меня.
На другой день утром, когда Агашенька пришла меня одевать в комнате, смежной со спальней Варвары Петровны, я взглянула ей в глаза - и мы без слов поняли друг друга. На мой немой вопрос я прочла в ее глазах ответ. Дети не были отправлены. Она кивнула мне головой и рукою указала на флигель. Я вздохнула свободно.
При доме Лошаковского на Остоженке был большой флигель для помещения дворни. Поляков, как дворецкий, имел отдельную комнату, и в этой-то комнате прожили и зиму и весну бедные три девочки, взаперти, без воздуха, но все же около матери и отца, которые урывками хотя несколько раз в день могли видеть их.
Часто бегала я туда. Меня всегда пускали потихоньку от maman посмотреть на них.
Бывало все три сидят на полу, в розовых сарпинковых платьицах, возле них обломки кое-каких игрушек, и на личиках улыбка удовольствия при моем приходе. Все они и теперь живы и с тою же радостной улыбкой встречают меня, когда мне, хотя и редко, приходится видеть их.
Не мало мучения было с ними, когда настали весенние, красные дни: старшая девочка была уже особа с некоторым смыслом и упорно просилась гулять. Выпускали их, точно маленьких зверей из заточения, в те часы, когда Варвара Петровна почивала, остальное же время держали их под замком и часто слышала я опасения Агашеньки: - Помилуй бог, выскочат! Увидит!
Так жили бедные дети, и никогда Варвара Петровна об этом не знала. Но впоследствии об этом узнал Иван Сергеевич, и его расположение ко всей семье еще усилилось.
О том, как Поляковы обожали своего доброго "барина", свидетельствуют их письма ко мне, в которых они мне говорят о каждом своем свидании с ним, о каждом письме, полученном от него.
Я нарочно ездила к сыну Полякова, чтобы получить от него все письма Ивана Сергеевича, но к несчастию ничего не нашла. Письма между 52-м и 54-м годом были сожжены его отцом, а остальные матерью по смерти мужа.
Андрей Иванович Поляков пользовался до самой смерти своей полнейшим доверием обоих сыновей Тургеневых и особенною любовью Ивана Сергеевича. И сама Варвара Петровна была вполне убеждена, что вернее его и его жены она слуг не имела. Но это усиливало только постоянное ее стремление мучить тех, кто лучше и кто ближе к ней. Из всех гонений, которые претерпели они оба, я только рассказала, что выстрадали отец и мать из-за детей своих. Я еще буду говорить о них после. И всегда на долю их выпадали одни страдания и муки за неуклонную их преданность своим господам.
Теперь возвращаюсь к нашей поездке в Воронеж.
Почти в конце августа 1840 г., когда доктора решили, что меня можно выпустить на воздух после оспы, выехали мы из Воронежа, заехали на несколько дней в разрушенное и еще неустроенное Спасское и переселились в Москву.
Там у Варвары Петровны был собственный дом на Самотеке, но он был так велик, что она решила его продать. К зиме 1840 года был нанят на Остоженке дом Лошаковского, и в нем, за исключением летних месяцев и двух или трех зим, жили мы до самой кончины Варвары Петровны.
В 1840 году мне было уже 7 лет, и с этого возраста начались мои мучения за других. Во мне уже пробудилось чувство осмысленной любви и жалости к окружающим меня. Я могла уже понимать и несправедливость и жестокость, и во мне постоянно происходила смутная борьба между любовью к maman и жалостью к тем, на кого она простирала свой гнев. Оплакивала я всех, но ей не смела даже взглядом выразить чувства, волновавшие меня. Самой же мне жилось хорошо. Любила меня Варвара Петровна и баловала, говорят, даже больше, чем сыновей своих в детстве. Наряжала меня роскошно, все было из магазина Salomon (Саломон) - знаменитости тогда. Куклы и игрушки мои возбуждали зависть моих маленьких гостей. Самые лучшие детские книги высылались мне Николаем Сергеевичем из Петербурга. Мучением же назвать нельзя заслуженные и незаслуженные иногда выговоры и наказания за детские проступки. Самым жестоким наказанием была ссылка в угол, где мне ставили стул, на котором я должна была, по мере вины, просидеть 2 или 3 часа, а иногда и более.
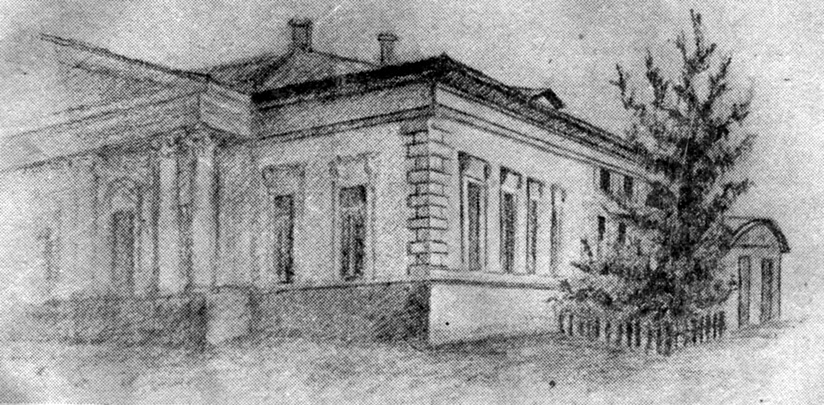
Дом бывш. Лошаковского на Остоженке в Москве, где в 1840 -1850-гг. жил у матери И. С. Тургенев. Рисунок А. А. Андреевой
Если же мне случалось очень уж прогневать maman, то она меня обрекала на ссылку в оранжерею или зимний сад, где я должна была точно так же просидеть неподвижно весь день, и тогда я получала за обедом только 3 блюда и лишена была пирожного.
Мне было 17 лет, когда умерла Варвара Петровна, и характер во мне тогда еще не довольно окреп для столкновения или борьбы за свою личную жизнь и свободу. Чем бы все это кончилось, проживи она больше - не знаю, но в последний год и во мне стали проявляться проблески явного протеста в защиту гонимых, а этого Варвара Петровна ни от кого не терпела.
Замечательная черта была в характере Варвары Петровны: лишь только она замечала в ком-нибудь из прислуг некоторую самостоятельность, признак самолюбия или сознание своей полезности, она всячески старалась того унизить или оскорбить, и, если, несмотря на это, тот, на кого направлялись ее преследования, смиренно их выносил, то опять попадал в милость; если же нет, то горько доставалось за непокорность.
В доме было даже техническое название для такого- рода испытаний. Говорили: "барыня теперь придирается к Ивану Васильеву"; или: "это было тогда, когда барыня придиралась к Семену Петрову"; или: "а вот увидите, станет уж барыня придираться к Петру Иванову - очень смело стал он с ней говорить".
И вот настала раз такая эпоха "придирания" к дворецкому, Семену Кирилловичу Тоболеву.
То был весьма красивый брюнет лет тридцати со всей походкой и манерой слуги самого аристократического покроя. По званию своему он чаще других имел случай разговаривать с барыней о разных домашних делах.
Заметила Варвара Петровна, что при некоторых ее предположениях о покупках для дома, при назначении кого-либо в одну из должностей при доме, Семен иногда возражал и говорил с ней довольно смело. Этого было достаточно:барыня начала "придираться" к своему любимцу дворецкому. В день несколько раз его призывала то за тем, то за другим, и всякий раз выражала ему свое неудовольствие, без всякой с его стороны вины. Но Семен был не из терпеливых и в дворне слыл гордецом.
Увидя себя предметом гонений, Семен хотя и не возражал и ни слова не говорил в свое оправдание, но лицо его показывало, что он только крепился, и кончилось асе это для него очень, печально.
За обедом Семен стоял за креслом барыни, а перед ее прибором стоял небольшой графин с водою, которая называлась "барынина вода".
Когда Варвара Петровна произносила слово: "воды! (Пить мне!) - дворецкий должен был налить ей воды из этого графина. Составив себе план атаки против Семена, Варвара Петровна всякий раз, как только подносила стакан к губам, находила в воде разные недостатки: то мутна, то холодна, то тепла, то с запахом.
Так продолжалось несколько дней сряду. Семен брал графин со стола и через несколько минут являлся, по- видимому, с другою водою. Варвара Петровна пила молча. Но на другой день опять то же: опять - воды! опять - нехороша. Дворецкий брал воду и приносил другую.
Так и в тот достопамятный день Варвара Петровна поднесла стакан к губам, оттолкнула его и, обратясь лицом к Семену, спросила:
- Что это такое?
Молчание.
- Я спрашиваю: что это такое?
Опять молчание.
- Добьюсь я, наконец, хорошей воды? - И мгновенно стакан с водою был брошен почти в лицо дворецкого.
Семен побледнел, взял со стола графин и вышел. Через несколько минут он вернулся и в чистый стакан налил барыне воды.
- Вот это вода! - сказала Варвара Петровна и отпила более полстакана.
Тогда Семен, бледный, с дрожащими губами, сделал несколько шагов вперед, стал перед образом, перекрестился широким крестом и сказал:
- Вот ей-богу, перед образом клянусь, я ту же воду подал, не менял!
Сказав это, он обернулся лицом к госпоже своей и посмотрел ей прямо в глаза.
Как ни мала я еще тогда была, но у меня замерло сердце. Я уже понимала, что так maman противоречить нельзя.
Прошло несколько секунд страшного молчания.
Варвара Петровна вдруг, встав с кресла, сказала: - Вон! - и вышла из-за стола, не окончив обеда.
Все в доме притихло, словно замерло, все ходили на цыпочках, все перешептывались, а сама Варвара Петровна заперлась в своей спальне.
Как-то жутко было и мне весь день. Я и куклы свои бросила, прижалась на своей скамеечке в гостиной и все думала, что-то будет? Я Семена очень любила, мне было и жаль его и страшно.
Но день прошел. Чай мы пили без maman, боялись даже загреметь чашкой или ложечкой. В 9 часов подали мне одной ужин, и гувернантка моя через дверь тихо-тихо проговорила:
- Il est neuf heures, madame, la petite doit se coucher (Девять часов, малютке пора спать.).
Послышалось слово: entrez (войдите.). Я вошла, подойдя к Варваре Петровне, сказала свое обычное: Bonne nuit, maman, bénissez moi (Покойной ночи, маменька, благословите меня.), и, получив поцелуй и благословение, легла тут же в ее спальне, в которой всегда с нею спала, за исключением немногих годов.
На другой день я вышла гулять и, увидав на дворе Семена, залилась горькими слезами. Вместо щегольского, коричневого, с ясными пуговицами фрака на Семене была надета сермяга, а в руках у него была метла, которою он мел двор.
Из дворецкого, по приказанию барыни, он преобразился в дворника и оставался в этом звании года три или четыре, пока не заменил его совершенно случайно появившийся в штате Варвары Петровны знаменитый ее немой дворник Андрей, описанный в "Муму" под именем Герасима.
Обе зимы 1840 и 1841 года жила Варвара Петровна в Москве, поддерживала знакомства, у ней были назначенные дни для приема и для вечеров. Сама она тоже изредка ездила по вечерам играть в карты к знакомым.
Сын ее Николай Сергеевич приезжал из Петербурга повидаться с матерью, по сильно подозреваю я, что в Москву его больше привлекала любовь к Анне Яковлевне, которая продолжала жить у нас. Варвара Петровна, от глаз которой ничто ускользнуть не могло, замечала все, но значения этому она никакого не придавала. А сын, конечно, и подумать не смел просить согласия на брак. Вдруг зимою 1841 года Анна Яковлевна у нас исчезла. Как это совершилось, никто не знал, да, если кто и знал, то говорить об этом не смел. Варвара Петровна даже и не удивилась и даже ничего не спросила о ней. Но с этого времени окончательно перестала высылать сыну деньги на его содержание в полку.
Николай Сергеевич вышел в отставку и поступил в министерство внутренних дел при Перовском. Сначала его жалованья доставало на житье, но когда родился сын, а через год дочь, и Анна Яковлевна очень заболела, они едва существовали на свои средства. Николай Сергеевич принужден был искать каких-нибудь занятий. Он нашел уроки французского языка, что значительно увеличило его доход.
Мать продолжала с ним переписываться, но на его робкие просьбы о пособии всегда отвечала упорным молчанием.
Как узнала она, что сын ее обзавелся семьей, долго никому из нас не было известно. Но она была вполне уверена, что они не венчаны, и надеялась, что любовь остынет и сын ее со временем сделает приличную партию.
Об этих ее надеждах свидетельствует все тот же ее альбом, сохранившийся у меня. Вот что я нашла в нем:
"А mon fils Nicolas.
Cher enfant, il court un bruit sur toi qui me cause un poignant chagrin. Vous avez pu vous laisser entraîner à un coupable penchant. Mon enfant, ne compter pas sur les promesses des passions. Elies s'évanouissent et avec elles les serments qui furent faits de bonne foi. S'il en est temps encore, renoncez a une faiblesse qui ne peut que vous entrainer a votre ruine. Je ne vous conçois pas: vous, si raisonable, vous qui connaisser si bien les devoirs de la societé et du rang ou vous êtes placé" (Сыну моему Николаю.
Милое дитя, о тебе пронесся слух, глубоко огорчающий меня. Ты дал себя увлечь преступной страстью! Дитя мое, не полагайся на обещания страстей: они исчезают, а с ними и клятвы, данные от чистого сердца. Если есть еще время, откажись от слабости, которая поведет тебя только к гибели. Я не понимаю тебя, такого благоразумного и знающего так хорошо обязанности, налагаемые обществом и твоим положением.)
В 1841 году Иван Сергеевич возвратился из-за границы (И. С. Тургенев приехал из Берлина в Петербург 21 мая 1841 г. на пароходе, поехал в Москву к матери и с нею - в Спасское.) и приехал летом в Спасское. Тут привез он свое первое сочинение "Парашу" ("Параша" не была первым сочинением И. С. Тургенева: он начал писать гораздо раньше (поэма "Стенио" написана им в 1834 г.), преимущественно стихи, и печатать их в различных журналах. Первая вещь Тургенева, попавшая в печать, была рецензия на книгу А. Н. Муравьева "Путешествие по святым местам русским" ("Журнал Министерства Народного Просвещения", 1836 г., август). "Парашу" Тургенев написал в Петербурге, в начале 1843 г. Поэма вышла отдельной книжкой (это было первое из произведений Тургенева, вышедшее отдельным изданием) во второй половине апреля того же года, за подписью Т. Л., т. е. Тургенев-Лутовинов. Из писем Варвары Петровны к сыну видно, что она не только читала "Парашу", но и очень одобряла ее. 27 мая 1843 г. она пишет: "...о "Параше" имею так много сказать, что буду писать в субботу пространнее. Спасибо, что не ударил лицом в грязь". На другой день: "По оказии пришли мне несколько книжек "Параши" и напиши, у кого в типографии ее печатали, сколько книг и почем продаются, и есть- ли в Москве". В письме от 25 июня 1843 г. она признается сыну: "В первую минуту я прочла "Парашу" без внимания. В моем же доме, как в порядочном водится, стихов русских не читают, потому и понять не могут... "Параша" мне прежде еще читаемой похвалы понравилась, и я точно вижу в тебе талант... Без шуток - прекрасно.., мило, деликатно, скромно". ("Русская мысль", 1915, XII, стр. 111, 112, 113).).
Впечатления особенного это у нас не произвело. Маленькая книга в голубой обертке валялась на одном из столиков кабинета его матери, и, сколько мне помнится, толков мало было о ней. Единственное, что из нее было извлечено и повторялось, это где-то сказанные слова: "в порядочных домах квасу не пьют". На основании этих слов, квас был изгнан со стола, к великому огорчению и прискорбию моей уважаемой гувернантки Катерины Егоровны Риттер, которая попробовала было потребовать квасу, но у Варвары Петровны требовать никто не смел, и квас подавали только в пристройке, где помещались мои гувернантки.
Радость Варвары Петровны при свидании с сыном была великая, хотя, впрочем, при встрече "ура!" никого кричать она не заставляла. Только сама она вдруг совершенно изменилась: ни капризов, ни придирок, ни гнева.
Чем это объяснить, как не обаятельностью и добротой Ивана Сергеевича, которая будто распространялась на все окружающее его. Все его любили, всякий в нем чуял своего и душой был предан ему, веруя в его доброту, которая в доме матери не смела, однако, проявляться открыто в защиту кого-либо. Но тем не менее, когда он приезжал, говорили: "Наш ангел, наш заступник едет".
Зная характер своей матери, он никогда ей не высказывал резко то, что его огорчало в ее поступках. Он знал, что этим еще больше только повредишь тому, в пользу кого будет произнесено слово защиты. И несмотря на это, Варвара Петровна при нем и для него точно перерождалась: она, не боявшаяся никого, не изменявшая себя ни для кого, при нем старалась показать себя доброй и снисходительной.
Охлаждение Ивана Сергеевича к матери совершилось позже, постепенно. Да и охлаждением этого назвать нельзя - он удалился только от нее. Борьба была невозможна, она повела бы к худшему, а видеть и молчать было слишком тяжело для его доброго сердца.
По приезде из Берлина он был необыкновенно нежен к матери. Он еще не успел вникнуть во все, творившееся дома, а прежнее, за три года отсутствия, изгладилось в его незлобивой памяти.
Те мелкие заботы друг о друге, выражающие более всего согласие и дружбу в семьях, были обоюдны. Варвара Петровна целые дни придумывала, чем бы угодить сыну. Заказывались и обдумывались его любимые кушанья, варенье, в особенности крыжовенное, любимое его, посылалось большими банками в его флигель, и надо правду сказать, что оно необыкновенно быстро истреблялось с моею помощью и с помощью разных дворовых ребятишек, которые смело подходили к окну его флигеля. Для них молодой барин был свой человек.
Кроме того, Варвара Петровна, не терпевшая собак, дозволяла Наплю, предшественнику известной у нас Дианки, постоянно присутствовать на балконе, потому только, что это была Ваничкина собака, и даже удостоивала из своих рук кормить Напля разными сластями.
С своей стороны Иван Сергеевич часто откладывал охоту, которую так любил, чтобы побыть с матерью, и когда она изъявляла желание прокатиться в своем кресле по саду (ходить она не могла), то сын не позволял лакею управлять креслом и всегда исполнял это сам.
Один из вечеров этого лета особенно был замечателен. В этот день Иван Сергеевич еще с утра отправился на охоту, а maman часов в 7 вечера поехала одна в карете осмотреть поля. Ее сопровождал только бурмистр верхом. Часу в девятом разразилась страшная гроза, одна из таких гроз, которых немного приходится кому-либо запомнить.
Я забилась в самый темный угол гостиной и плакала, потому что все в доме были в страшной тревоге. Ни барыни, ни барина молодого не было, и никто не знал, где они. Первый приехал Иван Сергеевич.
Переодевшись в своем флигеле, он прибежал в дом, не зная еще, что матери нет.
Увидя мои слезы и не зная причины их, он начал стыдить меня за то, что я боюсь грозы. А это действительно было со мною в детстве, и всегда меня за то журил Иван Сергеевич. Он брал меня к себе на колени, садился у окна и старался отучить меня от этого страха, обращая мое внимание на красоту облаков и всей природы во время грозы.
На этот раз, когда в ответ на его ласковые слова я начала еще громче кричать: - maman убило громом! Maman убило громом!- долго не мог он понять моих бессвязных слов.
- Где же маменька? - обратился он к кому-то.
- Барыня не возвращались. Они поехали кататься и не вернулись. Верховых по всем дорогам разослали,- было ему отвечено.
Иван Сергеевич бросился из комнаты.
Несмотря ни на дождь, ни на бурю, ничего на себя не накинув, побежал он на конный двор, схватил первую попавшуюся лошадь и выехал уже из ворот, сам не зная куда. Но тут же был встречен бурмистром, которого Варвара Петровна послала домой с приказанием никому ее не искать, и с известием, что она в безопасности сторожке лесника. Осмотрев поля, она вздумала поехать в лес, где ее и застигла гроза.
Долго, очень долго продолжалось наше томительное ожидание. Наконец, услыхали мы стук колес. Иван Сергеевич бросился на балкон и на руках вынес мать из кареты, донес ее до кресла, ощупывал ее платье и ноги.
- Не промокла ли ты, maman? - беспокоился он и беспрестанно целовал ее руки.- Ну, слава богу, слава богу,- твердил он,- с тобой ничего не случилось. Как я боялся за тебя: лошади могли испугаться и понести, это не выходило у меня из головы.
И опять припадал к матери и целовал ее.
Вот каковы были отношения сына к матери. И грустно, и тяжело было видеть, как они изменились впоследствии.
Для меня лично приезд Ивана Сергеевича имел тоже большое значение. Исключая счастие видеть его при моем к нему обожании, много было и других причин радоваться. Во-первых, прекращались все уроки: он утверждал, что летом детям учиться вредно. Заступался он за меня и открыто, за дело ли, не за дело мне доставалось, и еще чаще слышалось добродушное: "vous gâtez la petite" (Ты балуешь ребенка.) из уст Варвары Петровны. Но лучше всего было у нас. с ним послеобеденное время, когда maman уходила отдыхать в свою спальню. Иван Сергеевич ложился тоже на патэ.
Такого рода мебели теперь, я думаю, уже нигде не встретишь, но в Спасском тогда эта четырехугольная громада, вышитая по канве какими-то причудливыми арабесками, занимала всю середину небольшой гостиной нового дома.
И вот на эту-то громаду ложился Иван Сергеевич, причем его ноги все же на нем не умещались и, по крайней мере, аршина на полтора вытягивались в пространство. Он ложился, а меня сажал возле себя и тут рассказывались сказки.
Рассказывала, однако, я, а не он. И до сих пор не пойму, как не надоела я ему весьма частым повторением все одной и той же моей тогда любимой сказки "Голубой фазан". Иногда я расказывала и другие, но он, верно, заметил, что я эту люблю более других, и даже притворялся (как я после это сообразила), что и сам ее любит и забывает некоторые подробности из нее. И все это, чтобы доставить удовольствие ребенку!
Но до укладывания и усаживания нашего на знаменитый патэ происходили иногда хищнические наши набеги на бакалейный шкаф. А в Спасском этот шкаф имел историческое значение.
К дому примыкала уцелевшая от пожара каменная галерея. В ней помещалась библиотека, а с левой стороны, при входе в нее, стоял огромный шкаф, находящийся в ведении старика-камердинера покойного отца Ивана Сергеевича. Михайло Филиппович, так звали его, был оставлен после смерти барина своего на покое и на пенсии. Чтобы дать ему какое-нибудь дело, ему отданы были ключи от библиотеки и от шкафа.
Упоминая о библиотеке, замечу, что Иван Сергеевич, говоря о своем первом знакомстве с русской литературой (И. С. Тургенев познакомился с творениями Хераскова в детстве при содействии одного из дворовых своей матери - Леонтия Серебрякова.) через камердинера матери, говорил, вероятно, об этом самом Михайле Филипповиче, потому что, когда я уже была постарше, я часто и, разумеется, потихоньку от maman выпрашивала у старика французские книги для чтения. Он, бывало, отчаянно махнет руками (его привычный жест) и скажет:
- Эх, барышня! Все-то вы французские книжки читаете, ну что в них? Вот вы бы Хераскова почитали: книжка хорошая!
Но я выше m-me де Жанлис и переводов мисс Радклифф ничего тогда не находила.
Михайло Филиппович был очень глух и, хотя в то время мы никто этого не замечали, несколько помешан. Его странности, его характер и впоследствии трагическая смерть вполне это доказали.
Помешательство его совершалось постепенно, вследствие его глухоты и наклонности к уединению после смерти своего барина. Но видно было, что пережил он много такого, что с горечью таилось в его душе. Оглох он с 14 декабря 1825 года, кажется, вследствие контузии. Как и почему - об этом иногда говорилось шепотом и полусловами. Но один разговор, свидетельницей которого я была, доказывает истину этого предположения.
У покойного Сергея Николаевича Тургенева был друг и сослуживец Родион Егорович Гринвальд. Гринвальд всегда и после оставался другом Тургеневского семейства. При мне раза четыре приезжал он из Петербурга в Спасское и почти всегда в сентябре месяце, потому что был страстный любитель псовой охоты. Проживал он у нас в Спасском неделю и больше. Варвара Петровна делала все возможное, чтобы угостить и потешить своего дорогого гостя; сама выезжала в карете, чтобы следовать за охотой, на известных пунктах ожидала охотников, приглашенных соседей, с роскошным завтраком и прочими угощениями.
В один из своих приездов Гринвальд вместе с Варварой Петровной вошел в библиотеку. Михайло Филиппович встал, и лицо его озарилось не улыбкой, этого никто у него не видал, а как-то просияло.
- Что, старик, жив? Здравствуй! - обратился к нему генерал.
- Здравствуйте, батюшка, ваше превосходительство, жив-то жив, да вот глух стал - ничего не слышу.
- Il est sourd depuis le 14. Vous vous rappelez? (Он оглох 14-го. Вы помните?) - вмешалась Варвара Петровна (14 декабря Родион Егорович Гринвальд был дежурным во дворце на половине императрицы Александры Федоровны (прим. В. Н. Житовой).).
- Да, старина, много мы с тобой тогда страху видели,- кричал генерал над ухом старика.
- Да, да, ваше превосходительство, палили, страсть, как палили!
Разговор остановился на этом, но видно было, что Гринвальд, Варвара Петровна и старик хорошо друг друга понимали.
Факт был тот, что глухота Михайло Филипповича была так сильна, что он, отвыкнув постепенно слышать других, сам говорил мало, жил особняком, постоянно читал священные книги и, предоставленный совершенно самому себе, создал себе навязчивую идею, предмет мучения - бакалейный шкаф. Для него это было хранилище барского добра, для молодой прислуги - предмет потехи, а для меня - обетованной землей, текущей медом и млеком. В нем заключалось все, что может быть в хорошей лавке. Все пудами покупалось и привозилось из Москвы от Андреева и сдавалось на руки Михайле Филипповичу. Скупость его была необычайная. Получая все купленное, он отчаянно вздыхал и драматически качал головою.
- И зачем всего столько навезли? - говаривал он.- Сколько ни навези - все скушают!
Каждое утро приходил к нему повар и требовал из шкафа все нужное для стола.
Со вздохом развешивал и отпускал все старик, и, если требовалось 1/2 фунта чего-нибудь, он, отвесивши, хоть щепотку, хоть несколько зерен, в утешение себе, положит обратно.
Когда же, к великому его прискорбию, наезжали гости и требовалось провизии особенно много, Михайло Филиппович вздыхал так громко и с таким ужасом размахивал руками, что в такие дни и я, и многие приходили смотреть на его отчаяние, как на зрелище. Но мы не знали еще тогда, что это было для него действительно мучением.
Каждый день после обеда я получала позволение идти к Михайлу Филипповичу, и всякий раз назначалось, сколько и чего я могла взять.
- Мамаша велела взять пять черносливенок, или две винные ягоды! - выкрикивала я торжественно.
Тогда старик надвигал на лоб свои очки, долго, долго и подозрительно смотрел на меня, потом искал будто ключ и, наконец, не отворял, а приотворял только шкаф, потому что моя хищническая рука всегда старалась оттуда что-нибудь стащить, не столько из желания лакомиться, сколько для того, чтобы раздразнить старика. И тут он с отчаянием схватывал себя за голову, потом быстро, чуть не со мной вместе, старался притворить шкаф и безнадежно шептал: "Мамашеньке скажу... мамашеньке скажу".
Ложился спать он рано, тут же на деревянной широкой скамье возле шкафа. Но спал не спокойно, потому что часто вечером кто-нибудь из молодежи-прислуги нарочно шумел и гремел ключами около него. Как ни глух был этот цербер барского добра, он вскакивал и в неописанном ужасе осматривался кругом, но, конечно, никого не месте преступления не находил.
Мне кажется, для Михайла Филипповича приезд Ивана Сергеевича даже и тот не был праздником.
Со словами "пойдем грабить" отправлялись мы с ним к шкафу. Иван Сергеевич даже иногда при этом принимал свирепый вид, шел необыкновенно крупными шагами, причем я, держась за его руку, едва поспевала бегом за ним. Так и предстанем мы, бывало, пред лицом спасского Гарпагона.
- Отопри! - скажет Иван Сергеевич.
Ему, как большому и как коренному барину, шкаф отворялся настежь, и он полновластно распоряжался в нем. Сначала старик подопрет щеку рукою и вздыхает, усиленно вздыхает.
Я в восторге, дергаю Ивана Сергеевича за рукав и киваю па старика. Иван Сергеевич искоса посмотрит на него и продолжает опустошать на верхней полке, а я немного скромнее на нижней.
Михаил Филиппович качает головой и размахивает руками.
Нам еще веселее!
Наконец, не вытерпит старик, подойдет, погремит ключами, даже почти сделает движение, чтобы затворить шкаф.
- Погоди, погоди, Михайло Филиппович,- успокаивает его барин,- я еще не кончил.
Я уже не ем, а умираю со смеху.
А то бывало и так: ждет, ждет старик, пока мы насытимся и наконец умоляющим голосом скажет:
- Сударь! Пожалейте мамашеньку! Ведь у вас животик заболит!
После нескольких дней нашего такого опустошения Михаил Филиппович являлся к барыне. Сперва, по особенно ему на то данному праву, подходил он к ручке.
- Ну, что скажешь?- спросит Варвара Петровна, знавшая заранее, что последуют жалобы.
- Ничего, сударыня, не осталось.
- То есть как ничего?
- Да так, сударыня, ничего,- разведет он руками,- ничего не осталось, все покушали.
- Ну что же,- спокойно и с улыбкой утешает его барыня,- написать реестр того, что нужно, и послать подводу в Мценск или в Орел.
- Опять ведь все скушают,- с отчаянием и вразумительно повторит старик.
Варвара Петровна смеется.
А Михаил Филиппович, не видя в ней сочувствия, постоит, постоит, вздохнет и уйдет.
Смерть бедного старика была трагическая. Года два после смерти Варвары Петровны пришла ко мне моя Агашенька, тогда уже вольная, и объявила мне, что Михаил Филиппович повесился на чердаке спасского дома.
Через несколько дней я обедала у Николая Сергеевича, и на мой вопрос о страшной смерти бедного старика, Николай Сергеевич мне ответил:
- Вы помните скупость Михаила Филипповича, над которой и вы, и я, и все мы смеялись. Надо полагать, что это был род помешательства у бедняги, потому что после смерти маменьки, видя новые порядки в Спасском, все траты денег и расхищение добра, по его мнению: - Et vous savez, que Jean n'y va pas de main morte, quand il s'agit de dépenses (А вы знаете, что брат не стесняется, когда дело идет о тратах денег.),- видя все это, старик все больше и больше задумывался и скучал, постоянно твердил: "молодые господа по миру пойдут, по миру пойдут". Вот и не выдержал, покончил с собой.
Более всего огорчался старик теми наградами, которые сыпались от Ивана Сергеевича бывшим слугам его матери. Иван Сергеевич давал и деньги, и целые участки земли, назначал пенсии годовые и самому Михаилу Филипповичу отдал особое, более удобное помещение. Но все это только еще более приводило старика в отчаяние.
- Наш брат холоп скоро лучше самих господ заживет,- говаривал старик,- сами-то с чем останутся?
Говоря о наградах, так щедро расточаемых Иваном Сергеевичем, я должна сказать, что действительно, доброта его увлекала его, он давал иногда и недостойным, но были и такие, которые вполне заслуживали искупление за долгое претерпение под игом его матери. В числе подобных был крепостной доктор Варвары Петровны (Порфирий Тимофеевич Кудряшов, сын Сергея Николаевича Тургенева и крепостной женщины села Спасского. Побывав в 1838-41 гг. с Иваном Сергеевичем за границей, где слушал лекции по медицине и Берлинском университете, сдал в Москве экзамен на звание зубного врача. 17 июля 1862 г. И. С. Тургенев просил М. А. Языкова устроить Кудряшова акцизным чиновником и рекомендовал его, "как человека вполне надежного, честного, трезвого и образованного". (Первое собрание писем И. С. Тургенева, СПб., 1884, стр. 110). Кудряшов несколько лет был помощником акцизного надзирателя для наблюдения за винокуренными заводами Чернского уезда Тульской губернии.) Порфирий Тимофеевич Карташов.
Когда Иван Сергеевич поехал в первый раз в Берлин, Порфирий был послан с ним в качестве камердинера или, вернее, дядьки. С тех пор установились между ним и его барином самые приятельские отношения. Когда Иван Сергеевич бывал у нас, часто видели их вместе в самой дружеской беседе. Никогда никому это не казалось странным, потому что для сыновей, для меня и для всех Порфирий Тимофеевич был доктор и любимый человек. Крепостным он был только для Варвары Петровны.
На все просьбы Ивана Сергеевича дать Порфирию "вольную" мать его никогда не соглашалась. Но зато из всех своих крепостных единственно этого Варвара Петровна никогда не оскорбила ни словом, ни делом, и верила в него иногда даже больше, чем в своих лучших докторов.
Во всех трудных минутах жизни, при всех настоящих и напускных припадках и болезнях своей барыни Порфирий Тимофеевич являлся с своими неизменными лавровишневыми каплями и неизменными словами: - Извольте, сударыня, успокоиться.
И право, кажется, одного взгляда на эту спокойную и мощную фигуру достаточно было, чтобы угомонить всякие нервы.
Типична была наружность нашего милого доктора: высокий, плотный, со следами оспы на лице, которые нисколько не мешали добродушному выражению его лица, замечательно маленькие при его почти колоссальном росте глаза, но очень умные, ласковые глаза. Вся фигура его дышала невозмутимым спокойствием. Варвара Петровна называла его flêgme-toujours endormi (вечно сонный), но при всем том чувствовала себя спокойной только тогда, когда он был при ней.
Для Порфирия Тимофеевича не бесполезно прошли годы, проведенные в Берлине. Он там окончательно выучился совершенно свободно говорить по-немецки и, побывав еще до этого в фельдшерской школе в России, слушал в Берлине лекции медицинского факультета, и приехал оттуда с познаниями изрядного медика, за что и возведен был своей барыней в звание ее собственного домашнего доктора. Возвратясь в Россию, Порфирий Тимофеевич продолжал читать и заниматься. На книги для него его барыня не жалела денег.
В Москве друг и домашний доктор Варвары Петровны (Речь идет об Андрее Евстафьевиче Берсе.) никогда не прописывал ни одного лекарства, не предпринимал ни одного лечения в доме, не поговорив с Порфирием и не выслушав его мнения.
Сам Федор Иванович Иноземцев, начавший лечить Варвару Петровну с 48-го года, обратил на него внимание, признал в нем и знание, и богатые способности, и позволил ему, вместе с остальными своими учениками, каждое утро присутствовать при приеме больных и слушать наравне с другими его заключения о болезнях. Таким образом, познания Порфирия обогатились еще со слов нашего знаменитого доктора.
В Спасском слава Порфирия Тимофеевича, как врача, распространилась далеко за пределы Мценского уезда. Помещики присылали за ним экипажи, но увы!- как крепостной человек, он ездил только тогда, когда ему это позволяла барыня.
И как ни просил Иван Сергеевич мать отпустить его на волю, всегда получал отказ, за которым следовало перечисление всех благ и льгот, которыми пользовался его любимец, и которых, по ее мнению, совершенно достаточно было, чтобы отличать его от остальных слуг: он имел свою собственную комнату, почти кабинет - в самом доме, кушанье получал с барского стола, жалованья получал вчетверо больше прочих, и в Москве даже мог отлучаться из дома, не спрашивая позволения.
- Все это прекрасно,- говорил Иван Сергеевич,- да сними ты с него это ярмо! Клянусь тебе, что он тебя не бросит, пока ты жива. Дай ты ему только сознание того, что он человек, не раб, не вещь, которую ты можешь по своему произволу, по одному капризу упечь, куда и когда захочешь!
Но мать оставалась непреклонна. Порфирий Тимофеевич получил вольную уже от сыновей, по смерти матери.
Но он не расстался со своим любимым барином, поселился сначала в Спасском и занимался там больными, потом, выдержавши экзамен, был земским врачом в Мценске.
Я нарочно справлялась о его дальнейшей участи и узнала, что он был долго и тяжко болен. Иван Сергеевич взял его опять в Спасское и окружал его всевозможными заботами и попечениями до самой его смерти.
Один только раз пришлось-таки жутко Порфирию у своей барыни. Но и тут хладнокровие его не покинуло. Замечательный пример уверенности в себе и смелости в крепостном человеке показал он собою, не устрашась даже ужасной угрозы Варвары Петровны.
Мне было лет 10, когда я заболела горячкою. Это было в Спасском. Maman была в отчаянии. Сначала лечил меня Порфирий Тимофеевич. Видя, что положение мое все ухудшается, Варвара Петровна хотела послать за докторами в Мценск и за Гутсейтом в Орел. Но Порфирий этого не допустил.
Со своим невозмутимым спокойствием, своею несколько медвежьей походкой взошел он в кабинет барыни в ту минуту, как она писала Гутсейту пригласительное письмо.
- Не извольте, сударыня, беспокоиться посылать ни за кем. Я начал лечить барышню, я и вылечу.
Варвара Петровна вскинул а на него глаза, отложила письмо в сторону, пристально посмотрела на этого смельчака и сказала:
- Помни! не вылечишь - Сибирь!
Но и этим не смутился наш милый доктор. Так же медленно и спокойно вышел он из кабинета, сел возле моей кроватки и не покидал меня ни день, ни ночь, пока не произошел благоприятный кризис.
Тогда, все так же флегматически, не выражая ни торжества, ни радости (хотя и очень меня любил), вошел он в тот самый кабинет, где ему была обещана Сибирь, и объявил:
- Теперь барышня останется жива, только поправляться будет долго.
Вступление Ивана Сергеевича на литературное поприще весьма не нравилось Варваре Петровне.
По этому поводу происходили между матерью и сыном частые разговоры. Сидели мы раз в Спасском на балконе: Варвара Петровна, Иван Сергеевич, у ног которого покоилась его известная Дианка, заменившая умершего Напля, и я.
Иван Сергеевич был очень весел, рассказывал матери, как Михаил Филиппович убеждал его поменьше кушать, и заговорил о "Скупом рыцаре" Пушкина.
Вдруг Иван Сергеевич вскочил и заходил скорыми шагами по балкону.
- Да! Имей я талант Пушкина! - с досадой воскликнул он.- Вот тот и из Михаила Филипповича сумел бы сделать поэму. Да! вот это талант! А я что? Я, должно быть, в жизнь свою ничего хорошего не напишу...
- А я так постичь не могу,- почти с презрением начала Варвара Петровна: - какая тебе охота быть писателем? Дворянское ли это дело? Сам говоришь, что Пушкиным не будешь. Ну еще стихи, такие, как его, пожалуй, а писатель! что такое писатель? По-моему, écrivain ou gratte - papier c'est tout un (писатель и писец - одно и то же.)). И тот, и другой за деньги бумагу марают. Дворянин должен служить и составить себе карьеру и имя службой, а не бумагомаранием. Да и кто же читает русские книги? Определился бы ты на настоящую службу, получал бы чины, а потом и женился бы, ведь ты теперь один можешь поддержать род Тургеневых!
Иван Сергеевич шутками отвечал на увещания матери, но когда дело дошло до женитьбы, он громко расхохотался:
- Ну уж это, maman, извини - и не жди - не женюсь! Скорей твоя спасская церковь на своих двух крестах трепака запляшет, чем я женюсь (Подлинные слова Ивана Сергеевича (прим. В. Н. Житовой).).
И как мне тут досталось за то, что я не выдержала и рассмеялась на эти слова!
- Comment osez vous rire, quand il dit des bêtises! (Как смеешь ты смеяться, когда он говорит глупости.) - зашумела на меня Варвара Петровна.- И какие ты, Jean, глупости при ребенке говоришь,- обратилась она к сыну.
Но после этого я весь день не могла без смеху видеть Ивана Сергеевича.
- А я так вот чего не пойму,- продолжал Иван Сергеевич,- почему ты, maman, с таким презрением говоришь о писателях? Было время, что вы все барыни бегали за Пушкиным, сама ты любила и уважала Жуковского.
- Ах, это совсем другое дело - Жуковский! Как было не уважать его: ты знаешь, как близок он был ко двору!
Еще более уяснит воззрения Варвары Петровны на русскую литературу следующее:
Удостоила она наконец прочесть "Мертвые души".
- Ужасно это смешно! - похвалила она по-русски,- mais à vrai dire, je n'ai jamais lu rien de plus mauvais genre et de plus- inconvenant (но, по правде сказать, никогда я не читала ничего более неприличного.) - окончила она по-французски.
Между 1841 и 1846 годами Иван Сергеевич летом каждый год, бывал в Спасском (Лета 1841 и 1842 гг. Тургенев, действительно, провел в Спасском. Однако летом 1843 г. он был там лишь короткое время, лето 1844 г. прожил с В. Г. Белинским под Петербургом, лето 1845 г. за границей в Париже и в Куртавнеле у Виардо и только летом 1846 г. пробыл в Спасском более пяти месяцев, с мая по конец октября.), но и зимой часто приезжал к матери в Москву. Здесь чаще других посещал его покойный Тимофей Николаевич Грановский.
Иван Сергеевич занимал комнаты наверху. К нему мне всегда был свободный доступ, и я всегда бегала гуда, когда maman отдыхала или когда она занята была гостями. Грановский меня всегда ласкал. Прибежала я раз наверх; оба, хозяин и гость, что-то очень громко говорили. Иван Сергеевич быстро ходил по комнате и по-видимому очень горячился. Я остановилась в дверях. Грановский знаком подозвал меня и посадил к себе на колени. Долго сидела я, почти притаив дыхание, и сначала ничего не понимала. Но потом слова: крепостные, вольные, поселение, несчастные, когда конец? и пр., слова, столь мне знакомые и так часто слышанные, сделали их разговор мне почти понятным. Как теперь, так и тогда я не могла бы отчетливо передать все слышанное, но смысл был мне ясен. В разговоре их так сильно высказывались надежды на что-то лучшее, что и я будто чему-то обрадовалась.
Вдруг Иван Сергеевич точно опомнился и обратился ко мне:
- Ты задремала? ступай вниз, ты ведь тут ничего не понимаешь; тебе спать пора.
- Нет, поняла,- обиделась я,- моя Агашенька будет скоро вольная, да?
- Да, когда-нибудь,- задумчиво произнес Иван Сергеевич, и при этом поцеловал меня так, будто за что похвалил.
В одну из этих зим приезжал в Москву Лист (Ф. Лист дал первый концерт в Москве 25 апреля 1843 г., последний - 16 мая того же года. Вероятно, посещение И. С. и В. П. Тургеневыми концерта Листа произошло в апреле или мае 1843 г.).
Один из своих концертов давал он не в дворянском собрании, а в чьем-то частном доме.
Варвара Петровна, выезжавшая весьма редко, захотела, однако, послушать великого артиста. С нею поехал Иван Сергеевич. Лестница, ведущая в концертную залу, была высокая, а кресло на ремнях, на котором обыкновенно лакеи вносили ее на лестницы, не было взято. Ноги Варвары Петровны тогда уже пухли и были слабы: взойти так высоко и думать нечего было.
Глаза Варвары. Петровны сверкнули гневом на недогадливых лакеев.
- Я тебя внесу на руках, maman,- сказал Иван Сергеевич, и не дождавшись ни согласия, ни возражения матери, моментально схватил ее на руки, как ребенка, внес на лестницу и поставил почти у входа в залу. Многие из публики были свидетелями этой сцены. Поднялся шепот удивления и умиления. Нашлись многие, которые подходили к Варваре Петровне и поздравляли ее с счастием иметь такого внимательного и нежного сына.
Должно быть, и сама она была этим очень довольна, потому что выговора лакеям за забытое кресло не последовало.
В этом же году у Ивана Сергеевича сильно болели глаза (И. С. Тургенев жалуется на болезнь глаз в письме к Алексею Александровичу Бакунину 9 января 1845 г.: "Месяца через два я оставлю Россию может быть надолго: глаза мои очень стали плохи, и одно серьезное лечение может мне принести некоторое облегчение". Он, действительно, уехал во Францию весною 1845 г., получив заграничный паспорт, для лечения глаз.). Зрачки так уходили, что иногда видны были почти одни белки. Он лечился и прикладывал к ним компрессы из какой-то зеленой жидкости.
Каждое после-обеда ложился он на диван, я подавала ему компрессы, и так повторялось мое послеобеденное сиденье возле него. Но уже сказки о голубом фазане я не рассказывала. Иван Сергеевич был не весел. Говорили мы с ним потихоньку об Агашеньке, о её детях, о том, как все боятся maman. Рассказывала я ему свои детские печали и печали других и часто совершенно невинно наводила на него грусть. При моих рассказах он часто вздыхал и видимо страдал. Я тогда не могла понять того, что его терзало полнейшее бессилие кому- либо помочь, и с жестоким эгоизмом ребенка наслаждалась тем, что он мучился так же, как я. Никому другому я не смела ничего рассказывать. Некоторых своих гувернанток я боялась, да и не доверяла им - при случае, пожалуй, на меня maman донесут, а мне и без того часто за холопьев доставалось.
Весьма оригинально выражался Иван Сергеевич о моих уроках.
Обыкновенно, когда он приезжал, ему рассказывались мои, будто бы, необыкновенные успехи в науках и главное в языках.
Похвалила ему раз Варвара Петровна мое знание французского языка.
- Верю, верю,- ответил он,- болтает прекрасно, слов нет.
- И пишет без ошибок,- добавила maman.
- Ну этому ни за что не поверю; уж в партиципиях (причастиях (подлинные слова Ивана Сергеевича) (при. В. Н. Житовой).) верно сильно хромает. Но впрочем не ты одна,- утешил он меня,- все русские барыни и барышни в этом повинны. Все хорошо, а как до партиципиев дело дойдет, ну и конец! уж где-нибудь или лишний s, или e недостает.
Другой раз,- я была уже лет двенадцати,- наняли мне англичанку. Говоря уже до этого хорошо по-французски и по-немецки, я действительно очень скоро выучилась говорить по-английски.
Приехал Иван Сергеевич. Опять показывались мои тетрадки, опять похвалы моим успехам.
Единственное, к чему Иван Сергеевич относился всегда иронически, это к моим успехам. Он видел только внешнее, так сказать салонное мое образование, более всего основанное на знании языков.
В одно утро Варвара Петровна не выходила еще из своей спальни, а я должна была уже приняться за уроки. Напал на меня шаловливый день, болтаю без умолку, не сажусь за дело. Добрая моя мисс Блэквуд никак со мной не сладит.
Вдруг с хор, над самым учебным моим столом, раздался голос Ивана Сергеевича:
- А вот хвалили твои успехи, а я тебе скажу, что ты хотя и выучилась болтать по-английски, двух очень важных фраз не знаешь: be quite and hold your tongue (Сиди смирно и держи язык за зубами.)
Я и притихла.
Потешно еще говорил он о моей игре на фортепьяно Каждое утро должна я была играть гаммы.
Наслушавшись их вдоволь, Иван Сергеевич однажды выразился так:
Люблю я слушать твои гаммы. Первая льется, как быстрый ручей по гладкому дну, ни одного камня преткновения! Вторая уже изображает некоторую негладкость дна. Третья встречает по дороге камни, четвертая и пятая бежит точно по кочкам, а фа мажор вполне изображает днепровские пороги! (Почти слово в слово. Сравнения все подлинные его (прим. В. Н. Житовой).)
С каким восторгом вспоминаю я всегда его милые насмешки над моими познаниями и талантами, с какою любовью храню в памяти каждое его слово.
За год до Пушкинского праздника, в 1879 г., в одном из своих писем к нему, напомнила я ему все это и даже окончательно успокоила его насчет партиципиев и уверила его, что при своей долгой учительской практике вполне произошла сию премудрость. При последнем нашем свидании он очень смеялся этому выражению.
Перед отъездом Ивана Сергеевича за границу, в 1846 году, в Москву приезжала г-жа Виардо.
Она давала концерт (И. С. Тургенев в 1846 году за границу не ездил. Полина Виардо выступала в России в течение двух сезонов: 1843/44 гг. и 1844/45 гг. Варвара Петровна Тургенева посетила ее концерт в Москве во второй половине апреля 1845 года. Приведем выдержки из неопубликованных писем В. П. Тургеневой к М. Карповой от 13 и 30 апреля 1845 года:
"Авось, отдохну и опять вырвусь к Виардо, которую здесь ждут, как царицу: убирают ей комнаты цветами, а она, говорят, скряга, и живет всегда в трактире и, сколько бы у ней ни обедало, она более двух порций не берет".
30 апреля 1845 г.: "Твой Сережа весь праздник был у меня... Я его возила с собою в концерт Виардо в ложу 1-го яруса или бель-этаж. Наряды дам, пение Виардо - все его приводило в восхищение. Ложи были ужасно дороги: бель-этаж 80 рублей. Всегда весь театр был полон. Здесь от нее были без ума, кроме меня, которая и без прочих посторонних резонов не нашла бы в ней превосходства. Нет сравнения ни с Пастою, ни с Зонтаг, ни с Фодорой. Собою безобразна, но полюбится сатана, лучше сокола для иного. Я много имела неудовольствия..." (Центральный Государственный Архив Литературы и Искусства, фонд № 509, № 172).
). Варвара Петровна знала уже о привязанности сына к семейству Виардо и конечно не любила его, но слушать артистку поехала. Концерт был утренний. Приехав домой, она очень рассердилась за то, что Иван Сергеевич к обеду не вернулся. Сидела она все время насупившись и не произнесла ни слова. К концу обеда, она сердито стукнула ножом по столу и будто сама с собою говоря, ни к кому не относясь, сказала:
- А надо признаться, хорошо проклятая цыганка поет! (Подлинные слова (прим. В. Н. Житовой).)
Летом 1845 года Варвара Петровна поехала в Петербург с целью отклонить старшего сына от брака с Анной Яковлевной Шварц, уже давно втайне от нее совершившегося. Из писем, хранящихся у меня, я вижу, что 1 июня и 23 июля этого года она была там.
До сих пор я еще ничего не сказала о Николае Сергеевиче, старшем брате Ивана Сергеевича.
Насколько наружность Ивана Сергеевича со всею его аристократичностью была чисто русская, настолько Николай Сергеевич был джентльмен совершенно не русского, но английского типа. Когда я прочла Джен Эйр, роман так всех пленивший тогда, я не могла иначе себе представить Рочестера, как в лице Николая Сергеевича. И не я одна, многие дали ему это прозвище.

Полина Виардо. Акварель-миниатюра, 1845 г.
Братья всегда были дружны между собою. Но разница в их характерах была огромная. Я говорю, конечно, о них в их домашней жизни.
Иван Сергеевич отличался необыкновенно добродушным, безобидным юмором. Николай Сергеевич был насмешлив, и хотя не был зол, но не прочь был при случае уколоть и даже язвительно подсмеяться.
Иван Сергеевич искал кому бы сделать добро. Николай Сергеевич не отказывался его сделать при случае или по просьбе. И мне приятно при этом упомянуть, что ко мне лично после смерти матери Николай Сергеевич был очень добр всегда.
Речь Ивана Сергеевича была не совсем плавная, он пришепетывал и иногда точно подыскивал выражения, но всегда была она ласковая: какая-то сердечность сквозила в каждом его слове. Голос его был необыкновенно мягкий, симпатичный, а когда горячился, несколько визгливый, но не резкий. Слышавший его раз, никогда его не забудет.
Речь Николая Сергеевича была необыкновенно цветиста и громка. Никого никогда не слыхала я говорящим так на всех языках, как он. Рассказывал он как никто. Знал языки в совершенстве и выговаривал каждый, как свой родной.
Положим, что мы, русские, необыкновенно способны усваивать правильный чистый выговор иностранных языков, но не все могут достигнуть такого совершенства, как Николай Сергеевич. И главное замечательно то, что это было без всякой аффектации.
Часто приходилось мне слышать его. Периоды его были чисто классической долготы. В рассказах своих он иногда вводил столько эпизодов и анекдотов, и все эти отступления умел превосходно связать с целым, никогда не теряя нити и не запутывая слушателя в лабиринте своей блестящей речи. Как бы много и долго ни говорил он, мы только всегда поражались и восхищались его необыкновенною способностью представить все так картинно и живо. Некоторые его длиннейшие рассказы были полны юмористичного, впрочем скорей насмешливого, но блестящего ума, и когда он умолкал, всегда хотелось сказать: "Ну, еще что-нибудь!"
Варвара Петровна не раз говорила:- Я ошиблась именами своих сыновей, мне бы Николушку назвать Иваном: он-то у меня и есть настоящий Иоанн Златоуст.
При этом надо заметить, что красноречив и приятен был Николай Сергеевич только в своей семье и при самых близких знакомых. В обществе, и в особенности в дамском, скучнее и несноснее я никого не видала. Молчание и саркастическая улыбка на губах, неловкость и крайняя конфузливость в обращении, вот что в нем видело общество.
Итак, Варвара Петровна поехала в Петербург. Она была вполне убеждена, что он не женат, по до нее дошли слухи, что у него есть дети. Она пожелала их видеть, но в дом к себе не пустила и велела их пронести и провести мимо своих окон по улице, что и было исполнено. Бабушка из окна посмотрела на них в лорнетку и заметила, что старший мальчик напоминает Николая Сергеевича в детстве. Тем навсегда и ограничился ее разговор о детях.
Чтобы еще более склонить сына расторгнуть свою, как она предполагала тогда, связь с Анной Яковлевной, Варвара Петровна убеждала его переехать в Спасское и управлять всеми ее имениями, тем более, что с деверем своим Николаем Николаевичем она уже не так ладила, а сыну обещала чуть не золотые горы. Но Николай Сергеевич твердо отказался и объявил матери, что пока еще не желает бросить своей нажитой семьи. Так и прожил он безвыездно в Петербурге, службою и уроками содержа свою семью до 1849 года, когда наконец мать согласилась на его брак.
Великое горе постигло Николая Сергеевича и его жену. Все их трое детей в одну зиму умерли, и с тех пор других у них не родилось.
Было у меня одно весьма грустное свидание с Николаем Сергеевичем. Я была уже замужем, мы долго с ним не видались. Сидя в кабинете его пречистенского дома, я ему рассказывала о своей жизни, о своей семье и о своей маленькой дочери, и когда я выразила ему свои опасения потерять ее, он вдруг встал и продекламировал мне известные стихи Виктора Гюго "L'enfant" ("Ребенок". Перевод см. в прим. Ред.).
Когда он дошел до последних строф:
Seigneur, préservez moi, préservez ceux qui j'aime, Frères, parents, amis, et mes ennemis memes Dans le mat triomphants, De voir jamais l'été sans fleurs vermeilles, La cage sans oiseaux, la ruche sans abeilles, La maison sans enfants (Перевод стихотворения В. Гюго "Дитя": "Избави меня, господи, избавь тех, кого я люблю - братьев, родителей, друзей,- даже моих, торжествующих в зле врагов избави навсегда от вида: лета без цветов, клетки без птиц, улья без пчел и дома без детей". ).
Он горько заплакал, почти зарыдал.
Очень мне грустно было, что я своим разговором навела его на печальное воспоминание о его собственных умерших детях. Успокоившись немного, Николай Сергеевич начал мне рассказывать о своих пережитых тогда страданиях, о последних днях и речах своих дорогих малюток и кончил этими словами: "On dirait, que c'est la malédiction de maman, qui a amené mes enfants au tombeau" (Можно сказать, что проклятие маменьки свело детей моих в могилу.).
В ту же минуту воскрес в памяти моей эпизод с портретами детей его, и я в свою очередь ему его рассказала.
По приезде из Петербурга, Варваре Петровне пришла фантазия потребовать у сына портреты его детей. Видя в этом, как он и сознался после, проблеск нежности и возлагая на это даже некоторые надежды, Николай Сергеевич не замедлил исполнить приказание матери. Портреты были сняты и по почте высланы в Москву.
Пришло объявление на посылку из Петербурга. Варвара Петровна подписала доверенность на получение и на другой день утром приказала подать себе ее в спальню.
Андрей Иванович внес маленький ящичек, зашитый к холстину.
- Разрежь и раскрой,- был отдан приказ.
Поляков исполнил, вынул несколько листов бумаги, наложенных сверху, и не успел еще вынуть лежащего рамке первого портрета, как Варвара Петровна сказала:
- Подай!
Весь ящик был подан и поставлен на стол перед нею.
- Ступай! дверь затвори!
Рядом с Агашенькой стояла я в смежной комнате, притаив дыхание... Что-то будет?
При этом скажу, что мы все домашние по первому слову, произнесенному Варварой Петровной при ее пробуждении, всегда знали, в каком она духе и каков будет день.
На этот раз все предвещало грозу, и мы со страхом чего-то ждали.
Через несколько времени мы услыхали стук какого- то предмета, брошенного об пол, и звук разлетевшегося вдребезги стекла. Потом удар опять чем-то по стеклу и что-то с силою брошенное об пол, и все затихло.
Конечно, мы догадались, что бросались и разбивались детские портреты.
- Агафья! - раздался грозный голос Варвары Петровны. Агафья вошла. Барыня указала на пол.- Прибери это, да смотри, чтобы стекла не остались на ковре. Потом двинула на столе ящик.
- Выбросить это,- добавила она.
В эту же зиму все трое детей умерли.
Ни прежде, ни после, кроме переданного мною, никогда Варвара Петровна больше не упоминала о семействе Николая Сергеевича. С своей стороны и он никогда не делал даже никаких попыток, чтобы тронуть сердце матери в пользу ее внучат. Он слишком хорошо знал мать, чтобы не понимать всю бесполезность просьб и напоминаний о бедных малютках.
Какой бы эпизод из жизни, проведенной мною у Варвары Петровны, ни взялась я описывать, каждый из них имеет грустный, иногда даже мрачный оттенок. Но такова и жизнь вся наша была. Радостного было мало.
Кто не читал "Муму"? (Рассказ "Муму" написан И. С. Тургеневым в конце апреля - в мае 1852 г., в бытность его под арестом (за опубликование статьи памяти Н. В. Гоголя) на съезжей 2-й Адмиралтейской части в Петербурге. Напечатан в № 3 журнала "Современник" за 1854 год.) Кто не знаком с ее владельцем Герасимом? Весь рассказ Ивана Сергеевича об, этих двух несчастных существах не есть вымысел. Вся эта печальная драма произошла на моих глазах, и я надеюсь, что некоторые подробности о том, как Герасим или, вернее, немой Андрей попал к нам в дом, не будут лишены интереса.
Каждое почти лето Варвара Петровна отправлялась по деревням (технический термин), т. е. предпринималась на долгих поездка в имения Орловской, Тульской и Курской губерний. С особенным удовольствием вспоминаю я эти путешествия, которые обыкновенно совершались в нескольких экипажах. Карета самой Варвары Петровны, коляска с моей гувернанткой и главной камер-фрейлиной госпожи, кибитка с доктором, кибитка с прачкой и моей горничной и, наконец, кибитка с поваром и кухней. Поездки эти были продолжительные и длились иногда целый месяц. Варвара Петровна обозревала свои вотчины, поверяла своих управляющих, при себе совершала продажу хлебов, сохраняемых на гумнах, которых громадные скирды были расположены так, что карета, запряженная четвернею в ряд, свободно между ними проезжала. При этом надо заметить, что на такое гумно хлеб свозился из нескольких вотчин для продажи с одного места.
В одну из таких поездок приехали мы в Сычево. Деревня эта была верстах в 25-ти от Спасского. Оттуда привозились часто к столу живые стерляди и налимы, которыми изобиловал сычевский пруд.
Подъезжая к деревне, Варвара Петровна и все мы были поражены необыкновенным ростом одного пашущего в поле крестьянина.
Варвара Петровна велела остановить карету и подозвать этого великана. Долго звали его издалека, наконец, подошли к нему ближе, и на все слова и знаки, которые к нему относились, он отвечал каким-то мычанием.
Оказалось, что это был глухонемой от рождения.
Призванный сычевский староста объявил, что немой Андрей трезвый, работящий и необыкновенно во всем исправный мужик, несмотря на свой природный недостаток.
Но мне кажется, что исключая роста и красоты Андрея, этот недостаток, как придающий ему еще более оригинальности, и пленил Варвару Петровну. Она тут же решила взять немого во двор, в число своей личной прислуги и в звании дворника. И с этого дня он получил имя Немой.
Как совершилось это, охотно ли променял Андрей вою крестьянскую работу на более легкую при барском доме - не знаю. Да и будь я старше в то время, я бы тоже, вероятно, не особенно остановилась на этом. Тогда это было настолько обыкновенно: вдруг, ни с того, ни с сего, помещику вздумается крестьянина преобразить в дворового, или отдать его в сапожники, в столяры, в портные, в повара. Иногда это считалось даже особенною милостью, и никто и не заботился узнать, желает ли он или его семья такой перемены участи.

Герасим и Муму. Акварель художника П. М. Боклевского, 1880-е гг.
Точно так же и я тогда, при всей своей любви и жалости к крепостным, даже и не подумала пожалеть об Андрее, так внезапно оторванном от. родной почвы и родных полей. И только прочитав "Муму", расспросила я очевидцев и узнала, что он действительно сначала сильно грустил.
Да! Надо было иметь ту любовь и то участие к крепостному люду, которые имел наш незабвенный Иван Сергеевич, чтобы дорываться так до чувства и до внутреннего мира нашего простолюдина. Узнал же он, что Немой скучал и плакал, а мы все даже и внимания не обратили.
Но утешительно то, что Немой, вероятно, не долго печалился, потому что до несчастного случая с Муму он был всегда почти весел и изъявлял в особенности очень сильную привязанность к барыне своей, которая, в свою очередь, была к нему особенно благосклонна.
Варвара Петровна щеголяла своим гигантом-дворником.
Одет он был всегда прекрасно, и кроме красных кумачных рубашек никаких не носил и не любил. Зимой красивый полушубок, а летом плисовая поддевка или синий армяк.
В Москве зеленая блестящая бочка и красивая серая в яблоках заводская лошадь, с которыми Андрей ездил за водой, были очень популярны у фонтана близ Александровского сада. Там все признали тургеневского Немого, приветливо его встречали и объяснялись с ним знаками.
Замечательно огромное, но совершенно пропорциональное с его гигантским ростом, лицо Андрея всегда сияло добродушной улыбкой. Сила его была необыкновенная, а руки так велики, что когда ему случалось меня брать на руки, я себя чувствовала точно в каком экипаже. И вот таким-то образом была я однажды внесена им в его каморку, где я в первый раз увидала Муму. Крошечная собачка, белая с коричневыми пятнами, лежала на кровати Андрея. С этого дня все чаще и чаще доставалось мне от Агашеньки за крошки белого хлеба и кусочки сахара, которые она вытрясала из моего кармана. То были остатки лакомств, передаваемых мною потихоньку Андрею по адресу Муму. Очень мы с ним любили эту собачку!
Всем известна печальная участь Муму, с тою только разницей, что привязанность Андрея к своей барыне осталась все та же. Как ни горько было Андрею, но он остался верен своей госпоже, до самой ее смерти служил ей, и кроме нее никого своей госпожой признавать не хотел.
Но прежде чем совсем проститься с так хорошо нам всем знакомым Герасимом, расскажу еще о нем забавный анекдот.
В 1850 году, в первый день Пасхи, особа, не пользующаяся расположением Варвары Петровны, вздумала подарить Немому голубого ситцу на рубашку.
Разделял ли Андрей нелюбовь своей барыни к этой особе, или то была его привычка носить только красные рубашки, но Немой с презрением посмотрел на ситец, произнес единственный ему свойственный звук: - уфаа! и бросил ситец на прилавок.
В то время здоровье Варвары Петровны было уже очень плохо, и при ней находилась постоянно, в качестве сиделки и экономки, вдова из дворянок, Александра Михайловна Медведева.
Одною из обязанностей ее было по вечерам, перед сном растирать ноги Варвары Петровны. Опухоль и боль, в них происходящая от приближающейся водяной, от которой и скончалась Варвара Петровна, не давала ей заснуть.
В этот же вечер Медведева, зная, что этим, конечно, угодит своей барыне, не преминула рассказать поступок Немого с ситцем.
Голос Варвары Петровны даже дрогнул от удовольствия.
- Неужели он это сделал? - переспросила она.
Медведева рассказала при этом и то, что Немой показал на свою красную рубашку и выразил жестом, что его барыня много таких ему дает.
На другой день в 9 часов утра раздался колокольчик: барыня проснулась, открыли ставни.
Камер-фрейлина вошла, подала, как всегда, умыться на постели и внесла столик с налитою чашкою чая.
- Позвать Немого! - сказала Варвара Петровна.
Горничная остолбенела.
- Я говорю Немого позвать, слышишь?
Горничная вышла, недоумевая, однако решилась позвать.
Сначала наш гигант введен был в девичью. Пошли доложить:
- Немой пришел.
- Сюда в спальню, ко мне его позвать, только умойте его.
Тут в девичьей Немой выдержал такую чистку, какой он с роду не видывал.
Девушки, которых было чуть ли не десяток, каждая с еле сдерживаемым смехом старалась приложить руки к наведению блестящего лоска на Андрея. Наконец его умыли, причесали и даже голову намазали моей помадой. Ему объяснили знаками, что ему предстоит явиться к самой барыне.
В продолжение всего своего туалета Немой кряхтел чуть не на весь дом и радостно улыбался.
Варвара Петровна позвала меня и велела мне подать ей голубую ленту. Позван был тоже и дворецкий.
- Красненькую! - произнесла Варвара Петровна, что у ней, еще не привыкшей считать на серебро, значило десять рублей ассигнациями (3 рубля серебром).
Принесена была и красненькая. И наконец торжественно введен был Немой.
Все стаканчики, флаконы, чашки в спальне и уборной Варвары Петровны,- все заходило и задребезжало от тяжелых шагов Андрея. От удовольствия и радости он оглушительно мычал и смеялся. Как ни махала на него руками, чтобы его унять, главная горничная, вводившая его в апартамент госпожи, он только еще живее поматывал головою и наконец ввалился, предварительно нагнув голову, чтобы не удариться о притолоку.
Варвара Петровна, благосклонно улыбаясь, одной рукой показала на ленту, представила, как он плюнул на подарок, а другую руку протянула ему с красненькой.
Стоявшая тут горничная указала ему, что он должен поцеловать у барыни ручку, что он и исполнил довольно неловко, как не часто допускаемый до такой чести.
Уходя, он показал пальцем на свою барыню и ударил себя в грудь, что на его языке значило, что он ее очень любит. Он ей даже простил смерть своей Муму!
Но замечательно, что после трагического конца своей любимицы он ни одной собаки никогда не приласкал.
Вот как случилось, что наша поездка в Сычево дала впоследствии Ивану Сергеевичу материал для прекрасного рассказа.
Точно так же в одну из наших поездок по деревням приехали раз мы в Холодово. Не мило было Варваре Петровне это место по воспоминаниям. Тут прошло ее тяжелое детство в доме вотчима.
Старый, нежилой барский дом был почти заброшен: кое-где даже и стекла были выбиты.
Отдохнув немного с дороги, Варвара Петровна пошла по всем комнатам. Я, разумеется, с нею.
Вошли мы в узкую, длинную и довольно темную залу. Фамильные кое-где портреты по стенам неприветливо смотрели на нас из своих почерневших золоченых рам. На возвышении, в глубине залы, стояла белая колонна и на ней бюст Петра Ивановича Лутовинова, отца Варвары Петровны. Среди портретов почему-то замешалась Грёзова головка: девушки с голубем.
Из залы вышли мы в коридор или смежную комнату, и меня поразила крест-накрест досками заколоченная дверь.
Не успела я к ней подбежать и рукою дотронуться до старинного медного замка, торчавшего из-за досок, как Варвара Петровна схватила меня за руку:
- Не трогай! Нельзя! Эти комнаты проклятые.
Никогда не забуду я ее голоса и лица при этом. Столько страха, ненависти и злобы выразилось в них. Не успела я опомниться, как она меня скоро, скоро потащила дальше.
Страх ее сообщился мне. Что представилось мне, не знаю. Но я рада была сама убежать от чего-то и все оглядывалась, не преследует ли нас кто.
Позже я узнала, что забитые двери вели в бывшие комнаты ее вотчима, от которого она так много выстрадала.
Тут же в Холодове видела я то кресло, на котором скончалась бабка Ивана Сергеевича, заплатив предварительно священнику за свою отходную.
Перебирая в памяти моей жизнь и поступки Варвары Петровны, помня при этом ее любовь ко мне и то, чем она была для меня, я позволяю себе опять сказать несколько слов в ее защиту. Некоторые ее поступки могут возбудить негодование. Сама я, еще не выйдя из- под ее всеподавляющего авторитета, часто осуждала ее и была накануне борьбы с нею. Но она сама была озлоблена жизнью. А многие ли после гонений и бедствий не ожесточаются?
Детство и молодость ее были ужасны! Брак ее - и тот не дал ей того, чего ищет в нем каждая женщина - любви. При своем уме она хорошо понимала, что ее красавец-муж любил не ее, а ее состояние, что она была для него хорошая, выгодная партия. Жене своей Сергей Николаевич изменял весьма часто, и она это знала.
Дети ее - не обвиняю их - тоже не отвечали ее честолюбию, не оправдали ее надежд.
Старший женился против ее воли. Младший сделался писателем, что в ее глазах равнялось всякому оплачиваемому ремеслу. Что же имела она для своей интимной, личной жизни? Одно богатство и силу крепостного права.
Славы своего сына она не видала. "Хорь и Калиныч" (Очерк И. С. Тургенева "Хорь и Калиныч" впервые напечатан в "Современнике", № 1, за 1847 г., в отделе "Смесь".) едва ли возбудили ее восторг. Да она и не читала этого.
Еще в 1845 году Иван Сергеевич начал и писать и говорить матери о своем намерении опять ехать за границу (Письма И. С. Тургенева к матери до нас не дошли. Возможно, что, вернувшись в половине ноября 1845 г. из-за границы в Россию, Тургенев стал подготавливать мать к мысли о новой, длительной разлуке с нею: уехав за границу в январе 1847 г., он вернулся на этот раз в Россию только через три с половиною года, в июне 1850 г.). Варвара Петровна была этим очень недовольна и сильно отговаривала его от этого.
Весь этот год прожили мы в Спасском, и каждый семейный и годовой праздник ознаменовывался каким-нибудь событием, свидетельствовавшим о дурном расположении духа Варвары Петровны. Стремление Ивана Сергеевича за границу, вести о Николае Сергеевиче и поездка к нему, ссоры с деверем очень дурно повлияли на Варвару Петровну. Все такие свои неудачи и неприятности она вымещала на всех окружавших ее.
В том же, 1845 году Варвару Петровну постигло новое горе.
В конце зимы она почти окончательно разошлась с деверем своим, Николаем Николаевичем Тургеневым, который до этого времени жил холостяком и заведовал всеми ее имениями. В 1846 году он женился, следовательно, нашлись у него и свои личные интересы в жизни, а именно этого Варвара Петровна никогда не допускала в близких себе. Она держала около себя людей, считавших ее одну средоточием всех своих помыслов.
Они расстались, и несмотря на неоднократные попытки к примирению со стороны деверя, она осталась непреклонна.
Не могу при этом не посвятить несколько строк памяти этого истинно доброго и прекрасного человека. Все, знавшие его, любили его. Мы все звали его дядей, и был он дядя-баловник для всех нас. Что касается людей, подвластных ему, как-то: мелкие управляющие, конторщики, старосты и все слуги, все боготворили его никто его не боялся и никому он не делал зла. Напротив он был укрывателем всех провинностей, и все, что могло возбудить гнев Варвары Петровны, тщательно им скрывалось. Были случаи, что Варвара Петровна приказывала кого-нибудь сослать на поселение. Видя, что такое жестокое наказание не заслужено и есть только следствие каприза Варвары Петровны, он ограничивался высылкою виновного в другое имение - с глаз долой, при этом еще заботился о благосостоянии сосланного. Таким образом многие несчастные были избавлены и от горькой участи, и всегда делалось это втайне от Варвары Петровны.
Иван Сергеевич был кумиром дяди. Никого не любил он так, как этого племянника.
При отъезде Николая Николаевича я горько плакала, но выговора за это не получила. Мне было даже позволено с ним переписываться. В ответ я получал от него самые ласковые письма, полные уверений в том, что его новая жизнь и привязанности никогда не изгладят из сердца его чувства любви и уважения к Варваре Петровне, и что по одному ее слову он готов опять быть для нее тем, чем был и прежде, то есть самым преданным другом и братом.
Но Варвара Петровна не позволяла мне даже прочитывать ей его письма, потом вдруг однажды все их у меня отобрала и продолжать переписку запретила. Из всех его писем у меня сохранилось только два: одно от 16 августа, без пометки года, другое - от 17 апреля 1850 года.
Вся эта история, поиски новых управляющих, занятия по имениям и другие заботы - все сложилось так, чтобы раздражительно действовать на характер Варвары Петровны и на ее и без того крутой нрав.
Всем плохо жилось в этот год. Я чаще сидела под наказанием в зимнем саду, примыкавшем к ее кабинету. Меня запирали туда иногда на целые дни, но я должна признаться, что в этот год я не особенно огорчалась своим арестом. Лучше было сидеть одной среди цветов и с чижиками, щеглами и синичками, летавшими но воле в моем месте заточения, чем быть на глазах у maman. При этом же добрейший буфетчик Василий Иванович никогда не забывал приносить мне двойную порцию пирожного, когда maman после обеда ложилась спать.
Быть при Варваре Петровне сделалось ужасно тяжело.
Сижу я за уроком - придет сама спрашивать, и гувернантка дрожит, и у меня от страха все из головы вылетит при одном ее грозном виде.
За работой сижу я в гостиной: - Как ты держишь иголку? Что ты все молчишь?
Заговорю: - Что ты все болтаешь?
Уроню ножницы: - maladroite! (неловкая!) И при этом у нее появляется такой испуг от падения маленьких ножниц, что на помощь нервам подавался флакон со спиртом и начиналась моя пытка.
- Ты неблагодарная! Ты знаешь, что я расстроена больна, что малейший шум действует мне на нервы. Ты ни о чем не думаешь! Нет, это не ветреность, нет! Это ты нарочно делаешь! Ты убить меня хочешь своим поведением, ты все это нарочно делаешь!
После такой головомойки, конечно, весело на душе не может быть. Я же любила Варвару Петровну, и такой оскорбительный выговор мне, готовой все сделать, чтоб ей угодить, особенно был чувствителен. И взрослому трудно скрыть печаль, каково же это ребенку. Я сижу печальная. Грозный возглас:
- Поди сюда!
Подхожу.
- Что с тобой? Я тебя спрашиваю. Ну!
На все это я молчу.
- Что с тобой? Ты больна?
- Нет, maman, я здорова.
- А, а! теперь понимаю! - ответит за меня Варвара Петровна,- это ты губы на меня надула! Этого недоставало!
И опять целый поток брани и ссылка или в залу, или к моим синичкам.
На другой день опять за что-нибудь выговор. Тогда я напускаю на себя веселость, чтобы доказать, что я не обиделась. Опять не угодила...
- Чему ты рада? Тебе все равно, браню ли я тебя, хвалю ли я тебя. Ты - нечувствительная, неблагодарная тварь! - И диапазон голоса все возвышается.- Как? Я только что тебе сделала выговор, а ты болтаешь, смеешься! Вон!
И вот таково было постоянное пиление. Не знаешь, как себя вести, как говорить. Прогонит с глаз долой, даже вздохнешь свободнее, но не надолго. Призывается кто-нибудь из прислуг - опять страдание. Ужасно любила она озадачивать и долго томила призванного слугу вопросами: - Что такое? Что это значит?
Несчастный долго стоит, переминаясь, не зная даже, за что на него барыня гневается.
Так, бывало, станет Варвара Петровна у одного из окон гостиной, заставленного цветами, и позовет садовника.
На вопрос: что такое? что это значит? тот молчит.
- Что же ты не отвечаешь? Что это?
- Не могу знать-с.
- Молчать! Кому же знать?
Недоумение несчастного продолжается.
- Поливал ты цветы сегодня?
- Поливал-с.
- Врешь! Это что? - При этом указывается на один из цветочных горшков.- Как ты поливал?
Ответить - страшно, не ответить тоже.
- Не все поливал?
- Я все, сударыня, поливал.
- Молчать! Ты мне грубить смеешь! Вы все взялись меня в гроб уложить! Вы забыли, что на вас поселение есть! Всех сошлю! Полякова позвать!
Является Андрей Иванович. Несчастная жена его стоит за дверью и дрожит за мужа.
Опять те же вопросы: - Что такое? и проч. Натешившись недоумением Полякова, Варвара Петровна продолжает:
- Какой ты дворецкий? Какой ты мне слуга, если ты не можешь внушить этой челяди, чтобы мне не грубили. Вы все поселения захотели! Всех, всех сошлю!
И так всякий день.
28-ое октября этого года остается до сих пор в памяти всех, оставшихся в живых. Отцы и матери передавали этот рассказ своим детям. И теперь еще при встрече мы вспоминаем об этой замечательной выходке Варвары Петровны.
Дни рождения и именины сыновей и мои всегда справлялись торжественно у нас, несмотря даже на отсутствие виновника торжества.
Так и в этот год 28-ое октября, день рождения Ивана Сергеевича, должно было быть отпраздновано в обыкновенно установленном порядке.
Этот порядок описан много раз во многих хрониках помещичьих семейств. Везде и всегда одно и то же: длинный накрытый стол, пироги, жареные гуси, поросята, а в постные дни рыба. Все это нарезано порциями, а на одном конце стола графины с пенным вином (так звали тогда водку в Орловской губернии).
На женской половине такая же закуска, самовар и красненькое для прекрасного пола.
В 1882 году я в последний раз в письме поздравляла Ивана Сергеевича с днем его рождения и напомнила ему торжество этого дня в доме его матери.
В Спасском для мужского персонала стол накрывался в библиотеке, то есть в местожительстве почтенного Михаила Филипповича. В такие дни старик был особенно печален: уж очень, мол, много барского добра поедалось!
При входе в длинную галерею ставилось кресло для Варвары Петровны. Каждый из слуг, по чину и рангу подходил к ручке, потом к вину и, взяв стакан, вторично отвешивал поклон госпоже и пил свою порцию.
Первый походил Михаил Филиппович, за ним Поляков.
В этот год церемония прошла, как всегда, но чело Варвары Петровны было мрачно, чуялось что-то недоброе. Однако день и обед прошли благополучно, казалось даже, что она повеселела.
В этот же день, день святой Параскевы, была именинница главная кастелянша, Прасковья Михайловна.
Мимоходом скажу, что при всем своем деспотизме Варвара Петровна прекрасно содержала прислугу, кормила отлично. Холостые и незамужние обедали в застольной, а семейные получали обильную месячину: муку, крупу, масло, сало, мясо и рыбу; держали коров и дворовую птицу на. барском корму, получали отвесный чай и, кроме того, жалованье деньгами.
При таком содержании понятно, что у прислуги водились деньжонки, на которые можно было покутить. А так как кастелянша была одна из аристократок дворни, то и справляла свои именины.
Варвара Петровна знала, что к вечеру у нее соберется компания. Так и случилось.
Вдруг часов в девять вечера по дому разнеслась ужасная весть: "Барыне дурно! Барыня умирает! Священника барыне!"
Когда я в первый раз читала знаменитую надгробную речь Боссюэта на смерть Генриэтты английской: "Oh, nuit desastreuse! Madame se meurt! Madame est morte!" (О, ночь бедствий! Госпожа умирает! Госпожа скончалась!) я тотчас вспомнила и теперь вспоминаю наш знаменательный день 28 октября 1845 года, когда с тем же потрясающим ужасом разнеслась по всему Спасскому весть:Барыня умирает!
Послали за священником. Сама Варвара Петровна потребовала его совершенно угасающим голосом. Она исповедалась, и на предложение священника причастить ее, объявила, что прежде желает благословить меня и проститься со всеми.
Все тем же умирающим голосом приказала она Агашеньке поставить перед собою портрет Ивана Сергеевича, тот самый, копия с которого была помещена в январской книге "Вестника Европы" 1884 года, и портрет Николая Сергеевича.
- Adieu, Jean! Adieu, Nicolas! Adieu, mes enfants! (Прощай, Иван! Прощай, Николай! Прощайте, дети мои!)- твердила Варвара Петровна.
Я стояла на коленях возле постели ее и так горько и громко плакала, что добрый Порфирий Тимофеевич заставлял меня проглотить несколько воды, чтобы унять меня. Но когда Варвара Петровна велела подать икону Владимирской божьей матери и благословила меня, рыдания мои превратились в истерический крик. Меня увели из комнаты, чтобы несколько успокоить.
Порфирий Тимофеевич невозмутимо продолжал стоять в ногах постели барыни с своими неизменными каплями. Агашенька же стояла в головах и махала перед лицом своей госпожи салфеткой, намоченной в уксусе.
Варвара Петровна потребовала, чтобы вся ее домовая прислуга в числе сорока человек, и вся контора, в шторой числилось человек десять, начиная от главного конторщика, кассира, поверенного по делам и прочих чинов, чтобы все пришли с ней проститься, так как она чувствует, что умирает.
Когда ей было доложено, что все собрались, она приказала всем по одному входить и прощаться с нею.
Она лежала с полуоткрытыми глазами. Левая рука была свешена с постели. Каждый из слуг входил, делал земной поклон барыне и, поцеловав руку, удалялся, давая место следующему. Когда очередь дошла до последнего, она спросила: - Все?
- Все, сударыня,- отвечал Поляков, который в качестве дворецкого стоял тоже у постели для наблюдения порядка рукоцелования.
- А... а...- протянула Варвара Петровна.
Я продолжала плакать.
- Перестань,- приласкала меня Варвара Петровна и положила мне руку на голову.- Перестань, бог милостив, я может быть не умру, мне лучше Агаша! Чаю мне!
Конечно, я, как дитя, была убеждена в том, что теряю свою дорогую благодетельницу и долго не могла удержать свои слезы. Но доктор, Агаша и ее муж смекнули, что все это была одна комедия, и только недоумевали, к чему все это приведет. Развязка не заставила себя долго ждать. Варвара Петровна выпила две чашки чаю, ожидавшему в зале священнику позволено было удалиться, и она успокоилась.
Так прошло около часу.
- Полякова! - раздался зычный, наводящий на всех страх голос Варвары Петровны, по которому уже сейчас было слышно приближение чего-нибудь чрезвычайного.
- Бери листок! Пиши!
У постели на столике лежала коробка в форме книги на которой, конечно по-французски, было написано "Feuilles volantes" (Отдельные листки.). В этой коробке лежали листки бумаги, на которых она или сама писала или приказывала другим записывать свои планы, предположения и прочее для памяти.
Поляков взял листок и тут же карандашом начал писать под диктовку госпожи следующее:
"Завтра утром выгнать мести двор и сад перед моими окнами провинившихся: Николая Яковлева, Ивана Петрова, Егора Кондратьева" и т. д. Она продиктовала имена всех отсутствовавших при прощании с нею, а также тех, кого она заметила под хмельком во время прощания.
Когда имена всех были записаны, она только подтвердила исполнить и подписала приказ собственноручно
- Мерзавцы! пьяницы! все напились, рады, что барыня умирает! - с расстановкой говорила она.
Она и забыла, что напились все гораздо прежде страшной вести о ее якобы близкой кончине.
- Обрадовались, что я умираю! Пить принялись, именины справлять выдумали, когда барыня кончается...
И долго продолжала она в том же тоне.
На этот раз, мне помнится, я за виновных не особенно сокрушалась. Я очень любила Варвару Петровну, и радость видеть, что ей лучше, заглушила во мне сожаление к обреченным на метение двора.
На другой день все виновные, не исключая и тузов дворни и конторы, в серых халатах, с кругами и крестами, начерченными мелом на спинах, явились с лопатами и метлами перед окнами барского дома и великолепно расчистили двор и палисадник.
В этом же году случилось и то, что мы все, все Спасское и весь приход, остались без святой недели.
Известно, что пасха считается самым великим, радостным и торжественным праздником. Известно, как все ждут веселого звона колоколов после унылого, протяжного великопостного звона. А дети! Кто, вспоминая твои детские годы, не знает, как ждется сладкая, вкусная пасха, с каким нетерпением желаешь увидеть и съесть первое красное яйцо. И вот мне в детстве пришлось остаться раз без куличей, без пасхи и даже совсем без праздника.
Настал день светлого воскресенья. Обедня отошла рано, но звон в колокола начался уже часов в 7 или утра. Начин положил сам пономарь, и надо сказать, мастер своего дела. Ни в одной сельской церкви, ни прежде, ни после, я не слыхала такого искусного трезвона. Итак, начин положил он, а внизу мальчишки уже нетерпением, верно, ждали своей очереди позвонить для великого праздника.
Я проснулась и с радостью и умилением прислушивалась к какому-то особенному в моем воображении переливу колоколов, даже подбежала к окну, чтобы хоть сквозь ставни посмотреть на светлый день, каков-то он?
- Куда ты? - закричала на меня Варвара Петровна.
Чуткое, привычное ухо учуяло грозу. Я поспешно юркнула в постель и даже с головой одеялом накрылась.
Maman позвонила. Взошла Агашенька.
- Что это за звон? - спросила барыня.
Из предосторожности и чтобы вникнуть в смысл вопроса Агашенька молчит.
- Я спрашиваю, что это за звон?
- Праздник, сударыня, святая неделя,- был робкий ответ.
- Святая неделя! Праздник! Какой? У меня бы спросили, какая у меня на душе святая неделя. Я - больна, огорчена, колокола меня беспокоят. Сейчас велеть перестать!- уже совсем гневно докончила Варвара Петровна.- Для меня нет святой недели,- продолжала она,- и для моих, живущих у меня, она не должна быть. Сказать священнику, что я больна, что колоколов я слышать не могу.
А они все веселей и веселей гудели, и я слушала с такой жадностью. Вот, вот умолкнут, хотелось наслушаться, пока приказание еще не приведено в исполнение. И вот затихли. Прошло более часу в мертвой тишине.
В девять часов Варвара Петровна велела мне встать и одеться. Я вышла. На меня надели прелестное, вышитое белое платье.
Я ждала, пока у maman откроют ставни и подадут ей чай. Вслед за этим я должна была входить и прочитывать свою главу "Imitation de Jésus Christ" ("Подражание Иисусу Христу".).
Но ставни не открывались: барыня больна. Внесли чашку чаю, и я взошла.
Я остановилась в недоумении: христосоваться ли или просто сказать: bonjour, maman (Здравствуйте, маменька.).
Она протянула мне руку и поцеловала меня, как всегда в лоб.
- Что это тебя так нарядили? - спросила она слабым голосом,- запачкаешь. Переоденься и ступай чай пить.
А в зале весь стол так парадно накрыт! Севрский фарфоровый сервиз, подававшийся только в высокоторжественные дни, стоял на подносе. Самовар как-то особенно празднично блестел, а буфетчик Василий Иванович во фраке, в белых перчатках стоял наготове, чтобы разливать чай.
Пасха такая душистая, яйца ярко-красные, барашек из масла лежал смиренно на тарелочке с веткой зелени во рту. Кулич заглушал даже запах ванили в своей соседке пасхе, особенно хорошо изготовляемой нашим поваром Савелием Матвеевичем. Все, кажется, говорило о празднике, а вот его-то у нас и не было.
Я довольно равнодушно рассталась с своим хорошеньким платьицем и только спешила надеть другое, чтобы скорее идти в залу. Но увы! там меня ожидало полнейшее разочарование.
Там собрался целый совет, состоящий из Андрея Ивановича - дворецкого, его жены - Агашеньки, моей англичанки мисс Блэквуд, моего русского учителя Михаила Алексеевича Потапова, экономки Прасковьи Ивановны и буфетчика Василия Ивановича. Решался великий вопрос: разговляться ли или просто пить чай.
- Да как тебе барыня сказала? - приставал дворецкий к жене.
- Как? сто раз тебе говорила как,- с досадой ответила ему жена,- сказала, праздника нет, вот и все!
- Про пасху-то говорила или нет? - допрашивал буфетчик.
- Про пасху ничего не говорила,- ответила Агашенька.
- Ну вот! - обрадовался Поляков, который по доброте своей хотел молчание барынино о пасхе обратить в разрешение ее вкушать.
- Ну что, ну вот! - строго перебила его жена, которая была осторожнее и благоразумнее мужа,- ну что, небось, понял? Уж молчи ты! еще попадешься тут с тобой!
Вдруг все обратились ко мне, как бы ожидая от меня решения этого важного вопроса.
- Вам, барышня, что мамаша сказала?
- Она велела мне переодеться и идти...
- Ну да как сказала-то? - перебила Агашенька,- про пасху говорила?
- Нет,- хотя верно, но весьма нерешительно ответила я.
- Ну вот! - опять восторжествовал добрейший Поляков.
- Ах, замолчи, пожалуйста,- огрызнулась на него жена.- А я вот что скажу, прибрать это все,- благоразумно покончила она всеобщее недоумение.- Вася, прибирай!
- Конечно, лучше так-то,- одобрили остальные.
- Может быть к завтраку встанут и разговеются сами, не преминул шепотом утешить меня милый Андрей Иванович.
- Ну как же, дожидайся! - беспощадно огорчила меня Агашенька, знавшая лучше всех нас нрав своей барыни.
И не прошло двух минут, как все праздничные атрибуты были сняты со стола, и мы сели пить чай, как в будни, как в обыкновенный день. В утешение был только подан другой кулич, не петый.
Должна сознаться, что я глотала не чай, а слезы. Заплакать, избави бог! Позовет maman, увидит красные глаза - беда!
Вышли мы из-за стола. Мисс Блэквуд взяла свою библию, Михаил Алексеевич ушел к себе во флигель, и я осталась одна.
Так прошел завтрак и обед. Ходили без шума, говорили шепотом. Ставни у Варвары Петровны не отворялись, из спальни она не выходила, завтракала и обедала одна. Приходили священники с крестом, их не приняли: барыня нездорова, как будет лучше, пришлют сказать. Даже "Христос воскрес" я не слыхала.
От сдерживаемых целый день слез у меня заболело горло. Не понимая тогда еще причины этой боли, я о ней сказала своей гувернантке, и в довершение всего удовольствия натерли чулок мылом и салом и привязали мне к шее.
Так прошли первые дни святой, в том же безмолвии. В четверг или в среду, в первый раз, при входе в спальню барыни Агашенька услыхала слово:- Ставни!
Но перед завтраком на вопрос буфетчика:- Будете ли, сударыня, разговляться пасхой? - Варвара Петровна ответила:
- К чему теперь? Праздник почти прошел, да при том же все, верно, испортилось.
И остались мы без святой в этом году и в колокола не звонили.
В 1846 году Иван Сергеевич уехал за границу (В 1846 г. Тургенев за границу не ездил.), получив от матери весьма скромную сумму денег.
Последние дни перед отъездом своим он был особенно грустен, и в памяти моей во все последующие за тим годы образ его представляется мне не иначе, как задумчивым и печальным, совершенно противоположат тому, каким он рисовался мне в моем детском воображении.
В одном из его последних разговоров с матерью мне невольно пришлось участвовать и получить строгий выговор за неуместное мое в него вмешательство.
- Не знаю, о чем ты говоришь,- услыхала я, взойдя в смежную комнату, голос Варвары Петровны в разговоре, начатом уже до моего прихода,- не понимаю. Моим ли людям плохо жить? Чего им еще? Кормлены прекрасно, обуты, одеты, да еще жалованье получают. Скажи ты мне, у многих ли крепостные на жалованьи?
- Я и не говорю, чтобы они были голодные или не одеты,- сдержанно, с некоторой запинкой начал Иван Сергеевич.- Но ведь каждый дрожит перед тобой.
- Ну что же! - перебила его мать голосом, в котором ясно слышно было: "так и должно быть!"
- А ты, maman, подумай сама, каково человеку жить постоянно под таким страхом. Представь себе всю жизнь страх и один страх. Деды их, отцы их, сами они се боялись, наконец, дети их и те обречены на то же!
- Какой страх? Про что ты говоришь? - волновалась Варвара Петровна.
- Страх не быть уверенным ни в одном дне, ни в дном часе своего существования. Сегодня тут, а завтра там, где ты захочешь. Да это не жизнь!
- Не понимаю тебя.
- Слушай, maman, можешь ты вот сейчас, сию минуту,- все больше и больше горячился Иван Сергеевич,- можешь ты любого ну хоть на поселение отравить?
- Разумеется, могу.
- Ну, я про что же говорю - можешь?
- Заслужит - сошлю.
- А не заслужит? Так, по своему одному капризу тоже можешь?
- Конечно, могу.
- Вот тебе и доказательство того, что я всегда тебе говорю. Они не люди, они - вещь!
- Что же по-твоему, их на волю отпустить?
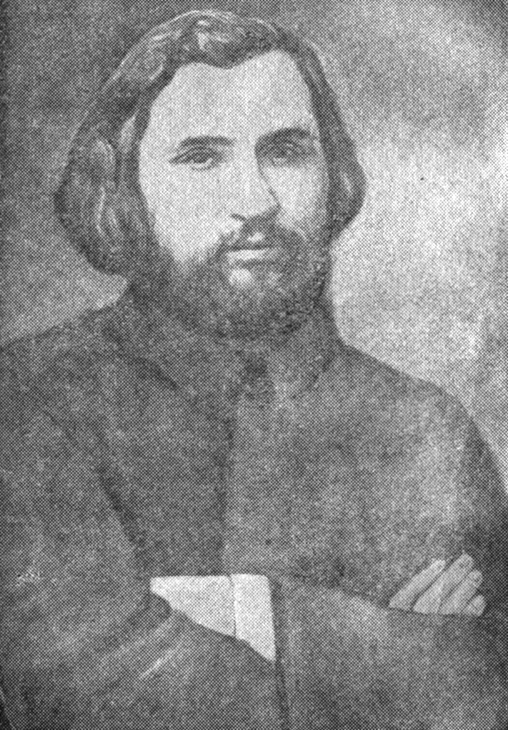
И. С. Тургенев. Дагерротип 1840-х годов
- Нет, зачем? Я этого и не говорю, на это еще время не пришло.
- И не придет! - решила Варвара Петровна.
- Нет, придет и непременно придет,- запальчиво и несколько визгливым голосом (когда горячился) почти вскрикнул Иван Сергеевич и быстро заходил по комнате.
- Сядь, ты меня беспокоишь своей ходьбой,- уняла его мать.- Моим людям дурно,- почти обиженно продолжала она.- От кого ты это слышал? Да разве без страха с ними можно?
- Можно, и многое, все можно. Неужели ты, при своем тонком понимании людей, не предполагаешь в них ни любви, ни привязанности, ни чувства?
- Да что ты, Jean, с ума сошел что ли? От кого ты слышал, чтобы я...
Сердце у меня замерло, я не дышала.
Накануне я сама так много рассказывала Ивану Сергеевичу о всех мучениях Агафьи и ее мужа, и в эту минуту мысль о том, что он заговорит о них, блеснула у меня в голове. Невозможно описать, как быстро все это пронеслось в уме моем и как я быстро сообразила, что могло от этого произойти. Я схватила первую попавшуюся книгу со стола - как сейчас вижу - карикатуры Гранвиля - и решилась прервать разговор, а потом сделать знак Ивану Сергеевичу.
- Maman, puis je prendre ce livre? (Маменька, можно мне взять эту книгу?) - стремительно взошла я в кабинет и чувствовала, что сама бледнее смерти.
- Что тебе надо?- закричала на меня maman,- что ты мешаешь, ты слышишь, мы разговором заняты, ступай!
Я пошла уже к двери, вдруг вслед за мной:
- Воротись! что с тобой? на тебе лица нет.
- Я - ничего...
- Как ничего? Ты все лжешь, ты белее платка моего. Ты больна?
- Да, у меня голова болит.
- А если голова болит, то никакой книги не надо. Положи, ступай.
Я вышла и стала за дверью, чтобы обратить на себя внимание Ивана Сергеевича. Но он сидел нагнувшись голова его опиралась на руку, видеть он меня не мог.
Все мои опасения оказались напрасными. Милый наш Иван Сергеевич сам спохватился и понял, что зашел слишком далеко, потому что, когда мать, желая продолжать разговор, спросила:
- Говори, что же ты слышал?
Он ответил:
- Разумеется, я ничего не слыхал, я только высказываю свое убеждение вообще. Я нахожу, что крепостной человек - не человек, а предмет, который можно передвигать, разбивать, уничтожать, ну все, вообще прескверное положение.
- Да чем же? - уже допытывалась Варвара Петровна.
- Как тебе сказать... ну, да оставим это, ведь ты...- и он опять быстро заходил по комнате.
- К чему же ты все это говорил? - упорно уже хотела продолжать мать.
- Да, так...- И помолчав немного, он остановился перед матерью.
- Я насчет брата хотел с тобою, maman, переговорить. За что ты на него сердишься? Ты знаешь, как ему деньги нужны.
- Этого еще недоставало,- вспылила Варвара Петровна.- От него зависит все опять иметь, ты это знаешь.
- Но не может же он бросить... начал было Иван Сергеевич.
- Не прикажешь ли мне еще на его брак согласиться?
- А почему же нет?
- Я вижу, ты совсем с ума сошел!
И Варвара Петровна разразилась целым потоком брани и упреков на старшего сына, потом досталось младшему. Тут она все припомнила и всем попрекнул
Иван Сергеевич имел неосторожность вдруг сказать матери, что на одно из его сочинений написана критика (Произведения И. С. Тургенева уже в 1840-х гг. обратили на себя внимание критики. Первым писал о нем В. Г. Белинский, поместивший в "Отечественных записках", № V, за 1843 г. подробный хвалебный разбор поэмы "Параша". В. П. Тургенева читала статью Белинского и писала Сыну: "В "Отечественных записках" разбор справедлив, и многое прекрасно". Несколько позже о Тургеневе писали П. А. Плетнев, К. С. Аксаков, С. П. Шевырев и др. См. вступительную статью К. И. Бонецкого к книге "Тургенев в русской критике". М., 1953, стр. 3-72. Которая из критических статей возбудила негодование Варвары Петровны - сказать трудно.).
Понимала ли Варвара Петровна настоящее значение критики или хотела только придраться к слову, что бы напасть на сына, но дело дошло и до доктора, и до капель.
- Тебя, дворянина Тургенева,- кричала она,- какой-нибудь попович судит!
- Да, помилуй, maman, критикуют, значит, заметили, и я этим счастлив. Я не нуль, когда обо мне заговорили.
- Как заговорили! Как заговорили-то? Осудили! Тебя будут дураком звать, а ты будешь кланяться, да? К чему ваше воспитание, к чему все гувернеры, профессора, которыми я вас окружала. Один бросил меня из-за женщины, ему ни в чем не равной, другой - ты, mon Benjamin (мой Веньямин.), в писатели пустился...
И пошли тут слезы, рыданья и истерика.
Явился доктор с каплями. Иван Сергеевич перепугался, начал целовать руки матери и старался всячески ее успокоить.
- Ну, перестань же, maman, успокойся, прости меня. Я сам не рад, что затеял этот разговор.
- Могу ли я успокоиться, могу ли не огорчаться,- с искренними слезами продолжала Варвара Петровна. Вот ты опять за границу собираешься.
И начались опять упреки и высчитывания всех выгод службы, женитьбы и жизни в России возле нее. Это и были самые трудные минуты для Ивана Сергеевича. Что мог он ответить на все упреки матери? Он опускал голову на руки и молчал, или с выражением скорби, почти отчаяния на лице смотрел в сторону. И он, и все мы вполне сознавали, что временная доброта и снисходительность Варвары Петровны поддерживались только редкостью и краткостью свиданий с сыном. Останься он при ней, она бы не выдержала долго, и он только был бы безмолвным и бессильным свидетелем того, что выносить он не мог, а чему помочь был не в силах. Легче от этого никому бы не было. И он уехал.
В ноябре 1846 года и я поступила в пансион г-жи Кноль, где, по странному капризу Варвары Петровны вместо моей настоящей фамилии Богданович, я носила фамилию Лутовиновой и под этим именем, до самого своего замужества, была известна своим подругам Аттестаты, выданные мне и подписанные профессорами преподавателями учебного заведения, даны мне тоже на имя ученицы Варвары Лутовиновой.
В июне 1847 года уехали мы в Спасское, и там безвыездно прожила Варвара Петровна до сентября 1849 года. Меня же на учебное время возили в Москву.
С этого года в последующих рассказах мне невольно придется более говорить о себе лично. Я вышла уже из детского возраста и почти перестала быть пассивною свидетельницею. На долю мою выпадало все чаще и чаще быть и действующим, и страдающим лицом, а несколько позже мне даже нередко случалось быть и тайной и явной посредницей между Варварой Петровной и ее сыновьями.
В пансионе жила я с своей гувернанткой, Софьей Даниловной Ивановой, приставленной ко мне от лица Варвары Петровны. Обязанность Ивановой состояла в том, что она должна была по праздникам сопровождать меня в церковь и ежедневно кататься со мной в отличном экипаже, запряженном парою или четверней дорогих лошадей. У г-жи Кноль жила я на особых правах. У меня была своя комната, своя прислуга, свой прекрасный мейбомовский инструмент, особый учитель музыки, известный тогда Гардорф, и т. д.
Я не упомянула бы об этом, как касающемся меня лично, если бы все это происходило и с сыновьями Варвары Петровны.
Тратя так много на мое воспитание и на роскошь, без которой я положительно могла обойтись, она детям своим не высылала ни копейки (В. П. Анненков, близко знавший Тургенева и его семейные обстоятельства, писал: "С самого начала 40-х годов он уже находился в ссоре с своей матерью, богатой и капризной помещицей... Тургенев представлял из себя какое-то подобие гордого нищего..., никогда не показывавшего приятелям границ, до которых доходили его лишения..." (П. В. Анненков, "Молодость И. С. Тургенева". "Вестник Европы", 1884, II, стр. 455). По-видимому, 1849 год был особенно труден для И. С. Тургенева в материальном отношении: 25 декабря 1849 г., благодаря издателя А. А. Краевского за присланные ему 300 рублей, писатель говорит: "Эти деньги решительно спасли меня от голодной смерти". Тому же Краевскому он пишет 22 января 1850 г.: "Вы можете рассчитывать на лихорадочную деятельность с моей стороны: голод - не тетка..."), и все ее щедроты тем тяжелее и тяжелее ложились как бы на совесть мою.
Неудовольствие Варвары Петровны на сыновей даже все увеличивалось. Порой она, может быть, и огорчалась разлукой с ними, если верить тому, что она писала мне в письме от 18 ноября 1847 года:
"Я никогда не была так беспокойна, очень я скучаю по тебе. Когда-то я буду жить своею семьею? Когда увижу всех вас, моих деточек? Из трех не вижу ни одного".
В это время ее особенно тревожили еще поиски главного управляющего над всеми имениями. С Николаем Николаевичем Тургеневым, своим деверем, она примириться не хотела и даже в одном из своих писем требовала, чтобы и я не смотрела на него более как на человека мне близкого и дорогого.
Совершенно, случайно и неожиданно нашла наконец Варвара Петровна человека, которому можно было доверить дела. В Мценске жил тогда Иван Михайлович Бакунин. Он приезжал довольно часто к нам. Велись разговоры о хозяйстве, о трудности управления разбросанными по разным губерниям и уездам имениями. Дело дошло до того, что Варвара Петровна упросила Бакунина взять на себя труд быть полновластным правителем всех ее 5.000 душ, таким же, каким был до этого ее деверь.
Зная нрав Варвары Петровны, Бакунин долго не соглашался, но и согласившись, по правде сказать, не особенно ладил с своей доверительницей. Он был человек весьма образованный и светский, а следовательно, рабски подчиняться Варваре Петровне не мог, лавировать же и скрывать не умел.
Он держал себя с нею на равной ноге, с тою только почтительною вежливостью, которую обязан оказывать каждый порядочный человек женщине и притом пожилой.
Не надеясь долго удержать Бакунина при себе и желая чем-нибудь приковать его к дому (без цепей ей не жилось), она намекнула на возможность брака между ним и тогда еще весьма юной близкой ей особой. Иван Михайлович поддался на это, даже искренне полюбил эту девушку и только из одной любви к ней продолжал заниматься делами Варвары Петровны до 1849 года. В этом году, заручившись согласием девушки быть со временем его женою, он оставил дом Варвары Петровны и поступил чиновником особых поручений при графе Арсении Андреевиче Закревском.
Гнев Варвары Петровны был велик, и всякие сношений с Бакуниным были строжайше воспрещены.
Уважая память Ивана Михайловича и его сестер, которые всегда были так ласковы и внимательны ко мне, я пользуюсь этим случаем, чтобы исправить ошибку, вкравшуюся в одном рассказе о Бакунине, где он под именем мнимого Бенкендорфа, изображен приниженным, стоящим у притолоки и выносящим невозможное обращение от Варвары Петровны. Он был слишком барин, trop gentilhomme (слишком дворянин.), чтобы допустить подобное оскорбление. Может быть и давала Варвара Петровна пощечины своим управляющим, но если даже и так, то ошибка в имени несомненна.
В сентябре 1847 года пишет мне Варвара Петровна о приближающейся холере. Тон тех нескольких строк в которых она говорит об этом, скорей шутливый и на смешливый. Далее в своем письме она упоминает о предметах, вовсе не касающихся холеры, и вообще вот письмо веселое, выражающее хорошее расположение духа, но никак не страх.
Между тем эпидемия, грозившая в 1847 году, посетила нас в 1848 году и действовала с неимоверной силой и быстротой вначале. Она буквально косила жертву за жертвой: случалось видеть совершенно здорового человека в два часа пополудни, а в пять услыхать, что его уже не стало.
Замечательно, что на нас, молодежь, то есть на меня, на племянницу нашей maman Сливицкую и на мою молоденькую гувернантку, Веру Николаевну Домелункину эта страшная болезнь никакого страха не навела.
О Варваре Петровне и говорить нечего. Она вообще никого и ничего не боялась. Мне даже кажется, что она в сознании своего величия и недосягаемости была уверена, что холера - и та не посмеет коснуться ее особи. Жили мы, как всегда, все тем же порядком: все те же катанья после обеда, Варвара Петровна в открытом ландо, а мы, молодежь, или верхами или в кабриолетах, все те же десерты, состоявшие из ягод и фруктов. И по этом, как бы бравируя болезнь, мы все три, разумеется потихоньку от Варвары Петровны, поглощали еще неимоверное количество всякой огородной зелени. Чего, чего не поедали мы!
Можно подумать, что такое геройство сообщилось нам от Варвары Петровны, которая не удостаивала даже намекнуть о возможности боязни холеры. Часто рассказывала она нам об эпидемии, бывшей в 1880 году, и о той скуке, какую она вынесла, просидев сколько-то дней в карантине. Все это доказывает ясно, как еще сильна духом была Варвара Петровна и как при этом была немыслима в ней какая-нибудь карикатурная трусость.
В конце июля эпидемия стала ослабевать, наступил успенский пост, maman вздумала говеть. Службы совершались на дому, в ее моленной. Спасская церковь была довольно прохладна, и Варвара Петровна пожелала причаститься дома. Для этого положено было принести дары из церкви.
6 августа, после слов "Со страхом божиим и верою приступите", раздался торжественный колокольный звон, священник вышел из церкви с дарами и направился к дому, где в просторной моленной ожидала его Варвара Петровна.
За священником, по заранее отданному приказанию, последовал народ, то есть вся аристократия дворни и конторы. Все вошли в моленную, блестевшую множеством старинных, богатых, фамильных икон.
Священник поставил дары на приготовленный для них стол и обратился к Варваре Петровне:
- К исповеди приступим, сударыня?
- Исповедуйте, батюшка,- и она перекрестилась.
- Выйдите все,- обратился священник к народу.
- Не надо! - твердо сказала Варвара Петровна.
Вышло смятение: иные уже направились к дверям, другие колебались.
- Остаться! всем остаться! - крикнула Варвара Петровна, обернувшись вся лицом к предстоящим.
- По уставу церковному исповедь должна быть один на один с отцом духовным,- мягко протестовал священник.
- А я хочу при всех исповедоваться...
- Но ведь нельзя,- несколько убедительнее произнес духовник.
- А я говорю, можно! - еще громче сказала Варвара Петровна и из рук священника взяла книгу.
Юный еще тогда отец Алексей (не знаю, жив ли он тогда он только что вступил в свое звание) оробел и замолчал. Он верно сообразил, что при силе, богатстве связях и знакомстве с архиереем его помещица может сильно ему повредить, передав факт совсем в ином виде Он уступил.
Тогда Варвара Петровна громко, отчетливо прочла молитву "на сон грядущим" - "Владыко, человеколюбче" и, окончив, стала лицом к народу.
- Простите мне,- сказала она и сделала по поклону на три стороны.- Теперь причастите меня, батюшка.
Когда священник прочел причастную молитву, земной поклон положили все без исключения.
На днях, теперь уже, получила я письмо от Агашеньки, которая напомнила мне еще один случай из ее многострадальной жизни при Варваре Петровне. Эпизод этот относится к 1845 году, но как подходящий и вместе с тем противоположный предшествующему рассказу, и его помещаю в моих воспоминаниях на том же месте рукописи, на котором застало меня письмо от жены Полякова.
После поездки своей к сыну летом 1845 года Варвара Петровна в декабре того же года опять послала в Петербург Полякова, чтобы достоверно узнать, женился ли Николай Сергеевич или нет.
Жаль было Полякову своего молодого барина, которому мать не высылала денег и который службою и уроками содержал свою семью. Он скрыл настоящее положение дел от своей госпожи.
Но у Варвары Петровны были в Петербурге родные и знакомые. В числе их было одно семейство, в котором одна из дочерей питала безнадежную любовь к Николаю Сергеевичу. Мать девушки ревниво следила за сыном богатой Тургеневой, рассчитывая через Варвару Петровну добиться разрыва между Николаем Сергеевичем и Анной Яковлевной, коих брак еще не был официально известен. С этою целью она написала Варваре Петровне письмо, в котором извещала ее, что сын ее Николай, живет совершенно семейно с Анной Яковлевной, к великому возмущению всего своего петербургского родства и знакомства.
Письмо это пришло вскоре после приезда Полякова, уверившего свою барыню, что Николай Сергеевич живет один и на холостую ногу.
Варвара Петровна пришла в неописанную ярость. С письмом в руке выбежала она из своего кабинета в смежную комнату, носившую название собственной барыниной конторы, и громовым голосом крикнула:
- Полякова!
Бледнее смерти явился бедный Андрей Иванович.
- Обманул! Солгал! - хриплым голосом произнесла Варвара Петровна, и не успел еще Поляков вымолвить слово в свое оправдание, как она схватила огромный, тяжелый костыль своего дяди Ивана Ивановича Лутовинова (И. И. Лутовинов, по семейному преданию, постукивал своим костылем по мешкам с деньгами, чтобы удостовериться, что деньги целы. Эту деталь И. С. Тургенев изобразил в "Трех портретах".), тот самый, которым он постукивал в кладовой свои мешки с деньгами (см. "Три портрета"). В припадке гнева Варвара Петровна не почувствовала даже его тяжести и замахнулась уже им над головой своего дворецкого. Еще минута, и несчастный Поляков может быть был бы убит. Но тут вовремя подоспел Николай Николаевич, ее деверь, живший еще в ту пору в Спасском.
Он стремительно бросился к своей невестке и отвел ее руку. Варвара Петровна упала на диван. Николай Николаевич знаком указал Полякову на дверь и побежал за водой.
Когда он вернулся, Варвара Петровна взяла стакан из рук, взглянула на него и глухим голосом произнесла:
- Спасибо тебе, ты нас обоих спас.
На другой день приказом из конторы предписано было сослать Полякова в дальнюю деревню Топки и из дворецкого переименовать его в простые писцы.
На этот раз не исполнить приказа было бы даже опасно. Поляков был увезен, оставив свою беременную жену совсем больною, убитою разлукой с мужем и гневом барыни, который мог выразиться еще и в больших размерах. Так прошла зима. Чаще и чаще видела я слезы на глазах Агашеньки, обращенных к иконам, у которых она, казалось, вымаливала конца своих мучений.
Как понять Варвару Петровну, которая для того, чтобы узнать, напились ли ее слуги, сказалась умирающей, Варвару Петровну, которая в 1848 году исповедовалась громко при всем народе, заставила молодого своего духовника уступить ее барскому произволу и, наконец, Варвару Петровну, которая в этот раз дала такое доказательство доброты и христианского смирения?
Приближалась святая неделя, та самая, которую мы не праздновали. На страстной Варвара Петровна говела; в великий четверг поехали мы с ней в церковь причащаться. Простояли мы уже почти всю обедню, пели причастный стих. Вдруг Варвара Петровна направилась к паперти, и изумленные каретные лакеи оба последовали за ней.
- Алексей, подавай! - крикнула она сама своему старому кучеру,-Домой!
Подъехав к дому, она вышла из кареты и, совсем одетая, в шубе, скорыми шагами прошла в свою уборную, где находилась Агашенька. Варвара Петровна остановилась прямо перед нею, сделала ей поклон, касаясь двумя перстами до земли.
- Прости меня,- громко сказала она.- К празднику твои муж будет здесь.
Агафья Семеновна бросилась перед своей барыней на колени со слезами радости благодарила ее. А Варвара Петровна возвратилась в церковь и причастилась с облегченной совестью.
Еще в мае 1848 года, живя в Москве в пансионе, получаю я письмо, в котором Варвара Петровна мне пишет, что на лето ждет сыновей в Спасское. В особенности вызывала она Ивана Сергеевича (Выехав из России во второй половине января 1847 г., И. С. Тургенев пробыл за границей почти три с половиною года: он вернулся в Россию в июне 1850 г. Из этого времени он значительную часть (с июля 1847 г. по июнь 1850 г.) прожил во Франции. Революционные события 1848 г. произвели на писателя глубокое впечатление. См. его письмо к Полине Виардо от 15 мая- 1848 г. с подзаголовком "Точное донесение о том, что я видел в течение дня в понедельник 15 мая". Через много лет Тургенев отобразил виденное им в двух очерках: "Наши послали" (1874 г.) и "Человек в серых очках" (1879 г.). Н. А. Островская передает в своих воспоминаниях слова Тургенева: "Мне хотелось бы, чтобы вы прочли маленькую брошюрку "Наши послали"... Она интересна тем, что я рассказал в ней действительное происшествие, происшествие удивительное... Я нисколько не прикрасил и ничего не прибавил". (Н. А. Островская, "Воспоминания о Тургеневе". Тургеневский сборник, изд. "Огни". Птр., 1915, стр. 132-133).), на которого смотрела весьма неблагосклонно за то, что он оставался во Франции во время и после Февральской революции. Ожидания, однако, ее не сбылись: сыновья не приехали. Но одна надежда опять увидать своего любимца благодетельно подействовала на Варвару Петровну. Она на некоторое время сделалась снова и добрее, и снисходительнее. На Полякова и его жену, как на любимцев Ивана Сергеевича, посыпались разные милости. С ним она шутила, советовалась и ласково разговаривала, а жену позвала однажды, осведомилась даже о ее здоровье.
На ответ Агафьи: - Я, сударыня, благодаря бога, здорова,- Варвара Петровна продолжала:
- Я вот зачем тебя позвала: если у тебя теперь опять родится дочь, назови ее Катериной в честь моей матушки покойной и, кроме того, я позволяю тебе следующего ребенка кормить самой целый год.
Агафья едва верила ушам своим и целовала барынины руки за такое неожиданное счастье.
С января 1849 года возобновились вызовы сыновей в Спасское. Я получала от Варвары Петровны письма почти по два раза в неделю и почти в каждом из них выражалась надежда на то, что летом все соберутся около нее. Бакунин, отказавшийся от своих обязанностей, был в опале. Николаю Сергеевичу подана была слабая надежда на позволение жениться. Ивану Сергеевичу наконец было послано 600 рублей на дорогу.
В первых числах июня и меня привезли в Спасское на вакации. С мая шли уже большие толки и приготовления к приезду молодых господ.
Флигель отделывался заново, цветники перед домом обещали самые разнообразные оттенки зелени и цветов. Уже распустившиеся померанцевые деревья были расставлены вокруг балкона в огромных зеленых кадках. С другой стороны дома испанские вишни и сливовые деревья ренклод были перенесены из грунтовых сараев, покрыты громадной сеткой, защищавшей их от воробьев.
- Пусть они здесь около дома стоят,- говаривала Варвара Петровна,- Ваничка ужасно всякие фрукты любит, а я из окна буду любоваться, как он их кушает.
А в фруктовых грунтовых сараях обильные завязи на громадных персиковых деревьях готовились к концу августа заменить и сливы, и вишни.
На доме развевался флаг с тургеневским гербом, с одной стороны, и с лутовиновским, с другой, и возвещал о том, что Варвара Петровна дома, принимает и рада гостям. Когда флаг был спускаем, это значило, что она никого принимать не желает.
Раз как-то, катаясь, Варвара Петровна вспомнила место, где был когда-то пруд, на котором дети ее, тогда еще маленькие, имели свой ботик, доставлявший им не малое удовольствие. Пруд был мелок, и им позволено было одним на нем кататься.
Место это в 1849 году представляло уже большой сухой овраг, заросший травою и окаймленный серебристыми тополями.
Немедленно велено было расчистить этот овраг, и на стороне, обращенной к большой дороге, приказано было водрузить столб, на котором доморощенный живописец, Николай Федосеев, он же и маляр, по приказанию барыни изобразил с одной стороны руку с протянутым указательным перстом, а на другой надпись, конечно, французскую: "Они вернутся".
Все было в точности исполнено, исключая несбывшегося "Они вернутся". Николай Сергеевич в самых нежных и почтительных выражениях писал матери, что готов посвятить ее спокойствию всю свою жизнь и силы, если она только согласится на его брак. Иван Сергеевич писал тоже умоляющее письмо (Письма И. С. Тургенева к матери не сохранились.), говоря, что он готов приехать, если ему только мать вышлет еще денег на дорогу, потому что полученных им от нее 600 рублей даже не достало на уплату его долгов за эти три года, в которые он от матери ничего не получал.
Варвара Петровна ни тому, ни другому не ответила.
Воспоминания мои приближаются к концу 1849 года, весьма знаменательному в семье Тургеневых.
Мне было уже шестнадцать лет. Детская беспечность и жизнь со дня на день сменились многими горькими днями и размышлениями, уже не покидавшими меня до дня кончины maman. Я начала сознавать все глубже и глубже свое странное положение в доме Варвары Петровны. Я пользовалась всеми удобствами, всею роскошью, а ее родные дети далеко от нее и только что не в нищете.
На мои личные расходы, кроме того, что тратилось на мое воспитание, определен был доход с целого имения, а именно с Холодова, которое по конторским книгам значилось так: "Имение барышни Варвары Николаевны Богданович-Лутовиновой".
Не мало все это меня мучило и впоследствии повлияло на мои отношения к сыновьям Варвары Петровны.
Кроме того, я уже не так терпеливо и безропотно смотрела на многие поступки maman, и если еще ничего не решалась сказать, то в глазах моих она читала тот протест, который я еле-еле была в силах сдерживать.
Заметила Варвара Петровна тоже ту любовь, которую питали ко мне все ее слуги. Она стала постоянно придираться к кому-нибудь из-за меня, делать выговоры, стараясь, вероятно, этим восстановить их против меня.
Все вместе взятое сделало жизнь мою почти мучительною. Конечно, молодость и свойственное ей легкомыслие брали иногда свое, нападали минуты беспечного веселья, но какое-нибудь слово, взгляд - и опять возвращалась вся горечь бессильного, беспомощного положения и невозможность чему-либо помочь.
Был у нас старик повар, которым сама Варвара Петровна дорожила: никто не умел ей так угодить и все сделать ей по вкусу, как он. Приехавши раз из пансиона домой, я села обедать одна с Александрой Михайловной Медведевой, сиделкой и экономкой. Maman была нездорова, спала и заказала себе обед к шести часам.
Когда ей подали кушать, и я взошла к ней.
- Ну, а у вас какой сегодня был обед? - спросила Варвара Петровна.
Я рассказала и на беду расхвалила ленивые щи.
- Принесите мне отведать,- приказала она.
Когда ей подали тарелку со злосчастными щами, она поднесла ложку к губам и вдруг с отвращением отбросила ее на пол.
- Что это за гадость! Позвать Савелья!
Взошел повар во всей своей ослепительной белизны поварской амуниции.
Последовал обычный допрос: Что это? Что это значит? на который бедный старик стоял, переминаясь, не зная, что отвечать. Потом пошла брань, угрозы и целый поток соболезнований обо мне.
- Бедная ты моя девочка! - нежно начала Варвара Петровна,- учится, трудится, приедет голодная домой и ей подают всякую дрянь. Да от такой гадости заболеть можно!
И опять шум.
Я выбежала в другую комнату. Подобная сцена была не первая. Чаша горечи переполнилась, рыдания подступили к горлу.
- Господи! За что такое мучение! - вырвалось у меня.
- Варенька! - послышалось из спальни.
Я взошла. Устремленный на меня грозный взгляд точно притягивал меня к столу. Но не успела я подойти, как в меня брошена была, прямо в лицо, большая хрустальная кружка.
Я отшатнулась. Миновав меня, кружка разбилась вдребезги и только один отлетевший осколок слегка ударил меня в косу.
- Карету!-закричала Варвара Петровна,- везите ее в пансион!
Пока запрягали лошадей, я стояла перед нею вся слезах и выслушивала обычные упреки в неблагодарности и за заступничество за холопьев, которые мне дороже нее, по ее словам.
Когда доложили, что карета готова, я сделала шаг, чтобы подойти к ней и попросить прощения, но она грозно остановила меня словом - вон! и после этого я целую неделю домой не приезжала и на глаза maman не допускалась.
Прежние ссылки мои в оранжерею или в зимний сад. заменились пансионом. Как ни любила я Варвару Петровну, как ни мучило меня ее неудовольствие против меня, но там, за уроками, с подругами своими я отдыхала душой от постоянного страха и давящего гнета.
В начале сентября приехал Николай Сергеевич и, наконец, мать ему разрешила жениться, но с тем, чтобы он бросил службу, переселился в Москву и принялся за управление всеми ее имениями. За это ему опять обещаны были всевозможные блага.
Александре Михайловне Медведевой поручено было отыскать поблизости к Остоженке продающийся дом, который Варвара Петровна намеревалась купить на имя сына, чтобы поселить его там с женой.
На Пречистенке рядом с депо найден был такой дом.
Совершили запродажную запись. Николай Сергеевич указал Медведевой некоторые поправки и переделки, необходимые в новом доме, и, получив благословение матери и небольшую сумму денег на дорогу, поспешил в Петербург обрадовать свою жену.
Он вышел в отставку и ждал только вести из Москвы, чтобы двинуться в новое жилье. Но по отъезде сына Варвара Петровна все делалась мрачнее и мрачнее, а про сына и про дом совсем замолчала. Медведева раз было заикнулась сказать, что владетельница дома требует совершения купчей и уплаты всей суммы. На это Варвара Петровна, помолчавши, ответила:
- Успеется.
Между тем от Николая Сергеевича Медведевой письмо за письмом: он спрашивает, что делается, скоро ли все будет готово. Чтобы не огорчить Николая Сергеевича и в надежде на более благоприятный оборот дела. Медведева не ответила в Петербург ни слова.
А мне в то же время все шились новые наряды у мадам Лядраг. Купили мне еще лучший второй инструмент Тишнера за 800 рублей, для выездов моих приобретена прекрасная двухместная откидная карета, а чтобы сопутствовать мне всюду, так как сама Варвара Петровна никуда не выезжала, нанята была уже не гувернантка, а компаньонка Софья Николаевна Шрёдер, особа весьма светская и представительная, которой платилось весьма приличное жалованье ввиду того, что туалеты ее должны были соответствовать моим. Опять мне все - баловство и роскошь, а Николай Сергеевич в Петербурге напрасно ждет изо дня в день известия о доме, который даже и не куплен.
Для некоторых уроков я продолжала ездить в пансион. Возвращаясь раз вечером домой в последних числах октября, я была крайне изумлена таинственным видом высаживавшего меня из кареты лакея.
- Барышня! - шепнул он мне,- улучите минуточку и зайдите в контору. Там у Леона Ивановича есть к вам письмо.
Что могло это быть? Я не имела никакой тайной от Варвары Петровны переписки. Любопытство и страх чего-то необычайного - все смешалось у меня в голове, а все-таки надо было прежде всего явиться к maman, отдать отчет в уроках и сказать, что задано на другой день.
На беду задано было французское сочинение, которое я обязана была писать всегда в ее же кабинете и черновое прочитывать ей. "Chez une femme un style élégant est une qualité essentielle" (Для женщины изящный слог - существенное качество.) говаривала она.
Но до злосчастного сочинения я должна была еще играть свои гаммы, "Днепровские пороги" и прочие ноктюрны.
А письмо все лежало, и догадки мои о том, от кого бы оно могло быть, настолько заняли все мои мысли, что я ни о чем другом не могла думать. Принялась я за свое сочинение. Темы его не помню, но в то время барышни обыкновенно изощряли свой слог над: "Le coucher du soleil", "Le soleil et la lune" или "L'amitié" ("Заход солнца", "Солнце и луна", "Дружба".)). На этот раз желание скорее его кончить сделало то, что я изорвала несколько листов и все-таки написала очень дурно, за что и получила два выговора: первый от Варвары Петровны, другой от учителя, который мне сказал: "Voilà une composition bien négligée" (Вот небрежно написанное сочинение.)
Но всяким мучениям бывает конец. Я попала в контору, и Леон Иванович вручил мне письмо. Оно было от Николая Сергеевича.
Не подозревая ничего для себя неблагоприятного, он удивляется тому, что не получает от Медведевой никакого ответа, весьма заботливо спрашивает о здоровье матери, просит меня сделать некоторые распоряжения по дому и принять на себя все почтовые издержки до его приезда.
Николай Сергеевич вообще был всегда очень холоден ко мне. Он меня ласкал редко в детстве, и то только при матери. А в последний свой приезд, то есть недели за три до этого письма, он даже несколько жестко и насмешливо относился ко мне. Но прежние неприятные отношения между нами впоследствии совершенно прекратились, стали самыми искренними и дружескими и оставались такими до самой его кончины. Когда я, бывало, приезжала в Москву, его дом всегда был моим родным домом.
Но в то время, так как мы расстались далеко не друзьями, его секретное письмо и то доверие, которое он им мне оказал, мне были весьма приятны.
Что было ответить? Что сказать?
Maman молчит, дом не куплен, вот что я ему могла написать, прибавив в утешение, что может быть все обойдется хорошо, что maman положит гнев на милость. Советовала ему потерпеть еще и не раздражать мать каким-нибудь неприятным для нее письмом. Николай Сергеевич был очень вспыльчив.
Но, кроме меня, нашелся еще кто-то, чтобы ему сообщить все, что у нас творилось:продавщица дома грозила продать дом в другие руки, потому что Варвара Петровна не платит денег и купчей не совершает. Вероятно, при этом не упустили случая написать о покупке рояля и кареты для меня. Я заключаю это из того, что в скором времени я получила от Николая Сергеевича на французском языке второе тайное послание, но желчное, отчаянное и с прежними насмешливыми колкими намеками мне на мой счет.
"2 ноября 1849 г.
Благодаря вас за доброту и любезность, с которыми вы мне отвечаете и исполняете мои маленькие поручения, спешу сказать вам, что помехи, чинимые госпожой Сессаревской в произведении работ в "некупленной покупке" повергли меня в мрачное отчаяние. Не отменяя, однако, своего плана действий, я вижу, что вынужден его изменить, то есть я приеду в Москву один, поселюсь на своем чердаке и, как только получу бумаги (Когда умер отец Тургеневых, имение его, село Тургенево, Тульской губернии, Чернского уезда, оставалось во владении Варвары Петровны, как матери и опекунши. Дети ее, всегда к ней почтительные и покорные, несмотря на то, что она их оставляла без всяких средств, никогда не вступали в свои законные права на имение отца, и только в 1850 году, когда Варвара Петровна заставила сына выйти в отставку и опять намеревалась лишить его всего, вынужден был Николай Сергеевич выправить все нужные бумаги, чтобы хоть чем-нибудь обеспечить содержание своей семьи и свое. (прим. В. Н. Житовой).), еду в деревню. Не в Спасское, куда мне запрещен въезд, не в Холодово, которое принадлежит вам, и не в имения маменьки - все это значило бы быть не у себя, но я раскину шатер в Тургеневе, где, как новый Дон-Кихот, построю себе лачугу и буду прозябать по крайней мере у себя дома. Как я только что сказал Александре Михайловне, благодарю бога, что не двинулся из Петербурга.
Представьте себе что-нибудь более смехотворное, что-нибудь более по К-ски: мебель моя - в беспорядке на московской мостовой, моя дражайшая половина - устраненная, изгнанная одна в Петербурге в пустой квартире, я сам - везде и нигде, без гроша по Б[ерсов?]ски, живущий в Б. в избе. Неправда ли, что такая беспечность, такая чертовская непринужденность, такие выходки гусарского полковника из комической оперетки необыкновенно идут к моей наружности? (Последняя часть письма и невыставленные имена относятся ко мне. И мне одной понятно все насмешливое и оскорбительное, сказанное тут между строк (прим. В. Н. Житовой).).
Решительно, я становлюсь совершенно сумасшедшим, будучи им наполовину от рождения.
Со скорбью и со стыдом в душе говорю вам, мадемуазель (если вы, впрочем, еще этого желаете), до свидания,
Прочитав это письмо, я залилась слезами. Чистосердечно сознаюсь, что слезы эти были вызваны не сочувствием к Николаю Сергеевичу, а теми оскорблениями и колкостями, которые я прочла и в строках и между строк.
Чем была я виновата? За что было меня попрекать Холодовым, которого я и не желала, и не просила? Оно числилось моим по произволу Варвары Петровны, без всяких моих на то законных прав.
Когда я несколько успокоилась и выплакала все свои слезы за оскорбления незаслуженные и мне одной в письме понятные, мне стало опять жаль Николая Сергеевича, а с ним вместе и дорогого Ивана Сергеевича, о котором и я, и все мы постоянно горевали: и тот на чужбине и также ни гроша от матери.
Начали мы с Медведевой обсуждать, как бы делу помочь, и надумали следующее.
На другой день Медведева, под предлогом покупок, получила от Варвары Петровны позволение отлучиться утром часа на два. Я должна была ехать в пансиона. Но вместо пансиона и покупок мы с ней отправились вооружась письмами Николая Сергеевича, к родственнице и приятельнице Варвары Петровны - Анне Ивановне Киреевской.
Из всех своих родных и знакомых, можно сказать, что единственно одну г-жу Киреевскую Варвара Петровна несколько любила и уважала. Она считала ее чуть ли не равной себе. Много зависело это от необыкновенного ума Анны Ивановны и от ее свободного обращения с Варварой Петровной, не часто встречавшей числе своих знакомых людей, не поддающихся ее авторитету.
Анна Ивановна Киреевская хотя и была расположена к Варваре Петровне, но держала себя с нею с полным достоинством: она умно и ловко умела избегать столкновений, но умела подчас если не подчинит себе гордую и несговорчивую кузину, то заставить ее в ином и согласиться с собою. А это было уже много.
К ней-то мы с Медведевой и прибегли за советом. Устроили целое совещание, чтобы склонить как-нибудь Варвару Петровну покончить дело с покупкой дома.
Дня через два после нашего тайного визита к ней Киреевская приехала к нам вечером.
Долго говорили они с Варварой Петровной о разных предметах, перебирали кое-какие новости. Вдруг среди самого разговора Анна Ивановна громко расхохоталась.
Изумленная Варвара Петровна вопросительно посмотрела на нее.
- Подумайте только, кузина,- все не переставая смеяться начала Киреевская (весь разговор шел по-французски).- Подумайте только, кузина, какие вздоры и сплетни распространяются по Москве! Вдруг слышу в одном, знакомом мне доме, что Сессаревская продает свой дом кому-то (тут Анна Ивановна сделала вид, что припоминает, кому) ...забыла кому... одним словом, кому-то, а не вам, и подумайте только, по какой, ни с чем не сообразной причине: мне говорят, что вы отказались совершить купчую. Я, конечно, спорю, а мне только и говорят, что вы отказались платить деньги. Мне даже досадно стало за вас, слушать такие нелепости. Я очень горячо за вас вступилась. Способны ли вы сделать что-нибудь подобное? Обещать подарить сыну дом, желать его ближе к себе устроить и потом от всего отказаться. Отказаться от обещания, от данного слова. Похоже ли это на вас?
Варвара Петровна выслушала все это, и сама пришла в негодование от подобных сплетен.
Урок Анны Ивановны подействовал. Немедленно была призвана Медведева.
- Скажи, пожалуйста, Саша,- вопрошала будто бы удивленная и обиженная Варвара Петровна,- когда я говорила, что отказываюсь заплатить за Николушкин дом? Говорила ли я что-нибудь подобное? Правда, я несколько замешкалась, но ведь у меня столько забот и горя. И при этом она поднесла платок к глазам.- Завтра же утром,- продолжала она,- ступай к г-же Сессаревской и скажи, что на этой же неделе я все с ней покончу. Мой поверенный будет у нее и внесет все деньги.
Тут уж все старались ковать железо, пока горячо. Через два дня все формальности были исполнены, дом был приобретен и по дарственной отдан Николаю Сергеевичу.
Я поспешила об этом его уведомить весьма сухим и церемонным письмом.
Но вся происшедшая при этом внутренняя ломка не прошла Варваре Петровне даром. Она действительно немного заболела и сама писать не могла. Под ее диктовку и за ее только подписью послала я Николаю Сергеевичу от ее имени самое нежное письмо, в котором она его приглашает: "Venez vous loger dans voire nouveau domicile, dans ce nid, que vous a bâti votre tendre mère" (Приезжай, поселись в твоем новом жилище, в гнезде, которое свила тебе твоя нежная мать.).
Но в середине письма было одно приказание: "Если нужно, найми француженку: жена Тургенева должна хорошо говорить по-французски". В последних числах ноября Николай Сергеевич с женой, свояченицей Катериной Яковлевной, молодой еще девушкой, и француженкой m-me Шевалье переселился в Москву.
На другой день после своего приезда утром пришел он к нам. Со мной он встретился и ласково, и дружески, и с той минуты до самой кончины своей был всегда ко мне внимателен и добр.
Мать приняла его довольно сухо, о жене не спросила и ни слова не сказала. Сначала она не особенно спешила устроить сына и невестку на приличную ногу, но потом послала им и мужскую, и женскую прислугу, и лошадей, и экипажи, и кучера, и у нас завелся новый термин: тот дом, в том доме, из того дома.
Раз кто-то имел неосторожность сказать про Николая Сергеевича и его жену "молодые господа".
- Кто это "молодые господа"? - строго спросила Варвара Петровна.- Разве мой второй сын Иван Сергеевич приехал? У вас есть один здесь молодой барин - мой сын Николай.
Варвара Петровна не любила невестки, не принимала ее, но никогда, ни при ком не выражалась о ней оскорбительно. Она была слишком горда, чтобы допускать посторонних в свои семейные дела. Интимная же сторона вряд ли кому известна, кроме меня, Агафьи Семеновны и Медведевой.
Приближалось 4 декабря - день наших общих именин с Варварой Петровной. По случаю моего шестнадцатилетия мне обещан был танцевальный вечер. Особенно подчеркивала Варвара Петровна сыну, что она будет звать всех. Она вообще и после любила питать его ложными надеждами. Званы были все, да не все. Николаю Сергеевичу приказано было прийти пораньше, так как после матери он - главный хозяин.
Горько было Николаю Сергеевичу быть у своей матери, при многолюдном обществе, одному, без жены, но повиноваться надо было.
Хозяином он, конечно, и не держал себя. Он вообще был великий дикарь в обществе, а тут, при несколько фальшивом положении женатого без жены, он еще более был смущен.
А мы, молодежь, кружились, танцевали и никому точно дела не было до того, что среди нас, при нашем общем веселье, есть человек, глубоко огорченный, и что этот человек - именно хозяин дома.
В самом разгаре веселья Николай Сергеевич вырвался, наконец, из гостиной, где был прикован немым повелением матери, которое он прочел в ее острых, выразительных глазах.
Вышел он в залу и стоял, скрестив руки на груди, между двух колонн. Как сейчас вижу перед собой всю его изящную фигуру. Он был во фраке, очень тщательно одет и очень красив, то есть замечательно порядочен, именно gentleman-like (по-джентльменски.). Почти злобная, саркастическая улыбка не сходила с лица его, когда он смотрел на кружащиеся перед его глазами пары.
Многие барышни обратили на него внимание, иные даже очаровались им и дали ему прозвище Рочестера, тогда современного героя и идеала.
- Прошли святки, и ни рождество, ни новый год, эти торжественные дни, в которые семьи и дружатся, и соединяются, не принесли никакой перемены в неприязненных отношениях Варвары Петровны к невестке.
Анна Яковлевна, вступившая в круг родства и знакомства, выезжала часто, и Варваре Петровне приятно было слышать, что она хорошо одета и что о ней шли хорошие отзывы. Но сына она продолжала мучить и озадачивать.
Она требовала, чтоб он каждый день в 11 часов утра приходил к ней, держала его у себя до трех или четырех часов за делами или за разговорами. Кроме того, требовала, чтобы он приходил и вечером. Часто при этом говорила ему: "Потерпи немного, придет время, я сделаю для тебя все, что ты желаешь",- подавала ему надежды и безжалостно разбивала их немедленно.
Случайно уцелевшая у меня моя же к Николаю Ceргеевичу записка с его ответом на обороте напомнила mi об одной из подобных выходок Варвары Петровны.
Было это, вероятно, во время рождественских праздников. Я пишу ему, по приказанию его матери, что она зовет его в два часа, а не в одиннадцать. Он отвечает мне по-английски "Очень хорошо". Я сказала maman что ответ получила.
- Где записка? - спросила она меня.
Я подала.
- Пиши тут же,- и она продиктовала мне следующее: "Сегодня вечером у нас будет кое-кто между шестью и одиннадцатью. Maman принимает всех".
Последнее было подчеркнуто самой Варварой Петровной.
На эту приписку я получила уже секретный ответ о Николая Сергеевича. Он пишет мне по-английски: " Я не понимаю этого и прошу вас объяснить". А как объяснить? Недоумение полнейшее! Как более знавшая Варвару Петровну, я посоветовала в тайном же письме не выводить из этого особенно благоприятного заключения и подождать до вечера, не будет ли еще нового распоряжения.
Я не ошиблась: распоряжение последовало. В пять часов Варвара Петровна призвала одного из мальчишек, стоявших у ее дверей, и приказала:
- Ступай в тот дом и проси сейчас ко мне барин Николая Сергеевича.
Мальчишка ринулся, но я успела ему сунуть в руку записку, на которой написала: "Приходите одни". И хорошо сделала, потому что разговор Варвары Петровы в этот же вечер с Медведевой вполне нам доказал, что поступи Николай Сергеевич иначе, было бы очень плохо.
А положение его в Москве начало становиться довольно критическим. Дан был матерью дом и прислуга, а на содержание всей семьи и всего люда и лошадей опять не давалось денег. Сначала Николай Сергеевич жил на вырученное в Петербурге от продажи кое-какого имущества, но содержание экипажей, лошадей все это стоило очень дорого, и его скромной суммы стало не надолго. Раз он матери сказал, что у него нет денег. Она ему ответила:
- Погоди, вот приедет брат Иван, я вам обоим разделю именье, и все будет ваше.
Настаивать Николай Сергеевич не посмел и принужден был занимать.
А меня она все больше и больше наряжала и даже подарены мне были бриллианты, крест и ожерелье, все из солитеров, оцененные в 28 тысяч.
В один прекрасный день Варвара Петровна захотела на мне примерить все это богатство, и сама надела на меня эти украшения.
- В этом ты будешь венчаться, а теперь запри в свою шкатулку и ключ от нее носи на шее,- сказала она.
А Ивану Сергеевичу на его просьбы отвечала, что теперь денег нет, со временем пришлет.
Какая цель была у Варвары Петровны действовать так, и до сих пор осталось для всех нас загадкой. Она любила меня, хотя и по-своему, в этом я теперь вполне уверена: достаточно прочесть одно из ее писем ко мне, чтобы в этом убедиться. Но детей своих, и в особенности Ивана Сергеевича, любила она гораздо больше.
С начала февраля она почти каждый день говорила: "Надо Ваничке денег послать", и это все откладывалось день за день, по разным, нисколько не уважительным причинам. А то бывало и так, что на несколько дней Варваре Петровне угодно было даже совсем забывать об этом и потом сказать:
- Ах! вот опять забыла! завтра надо за границу деньги посылать.
В самом начале весны Варвара Петровна довольно серьезно заболела. Иноземцев ездил к нам каждый день. Александра Михайловна не выходила почти из спальни.
В одно утро maman позвала меня перед моим отъездом в пансион.
- Сегодня ты учиться не поедешь,- сказала она мне,- Сашу я отпустить не могу. Ты одна поедешь в контору Ценкера и отвезешь туда деньги для пересылки их Ивану. Помни, что ты поедешь одна. Не ветреничай, не потеряй, будь осторожна. Получи там квитанцию и привези мне показать ее.
А у меня уж с начала нравоучения сердце билось от радости. "Наконец-то!", думала я.
Пока запрягали карету, у меня был один страх, как бы опять Варвара Петровна не отдумала.
Карета подана. Я взошла в спальню, и мне вручен был пакет. Не знаю, как удержалась я, чтобы с ним не бежать на крыльцо. К счастию я помнила, что в глазах maman я должна быть теперь положительною особою, которой вверена большая сумма денег, а не семнадцати* летней девчонкой, готовой от радости без ума бежать.
От Остоженки до банкирской конторы Ценкера было довольно далеко. Всю дорогу я смотрела из окна кареты и все боялась, нет ли за мной погони, не отменила ли опять Варвара Петровна свое решение. Кучер, которому я беспрестанно кричала: "скорей, пожалуйста, скорей!" даже обиделся:
- Что это вы, барышня? Неужели я сам не знаю, как ехать. Чай не на пожар.
Сильно настроенное воображение сделало то, что чувство страха меня не покинуло и тогда, когда я, взойдя в контору, дрожащими руками подала пакет какому- то господину.
- Für den Herrn Turgenieff nach Paris. Bitte nur schneller, schneller! (Господину Тургеневу в Париж. Пожалуйста, скорее!).
Господин удивленно посмотрел на меня и предложил мне стул.
Наконец я благополучно привезла квитанцию домой и даже получила незаслуженное поощрение.
- Привыкай, привыкай,- сказала Варвара Петровна.- Я становлюсь с каждым днем все слабей и слабей, скоро придется тебе совсем быть моим секретарем. И переписку мою ты поведешь, и поручения мои исполнять будешь.
В промежуток времени между отсылкой денег и приездом Ивана Сергеевича, с Николаем Сергеевичем и его женой случилось ужасное происшествие. Они поехали кататься в Петровский парк, лошади понесли и коляска разбилась вдребезги об кучу мелких камней, насыпанных на шоссе. Николай Сергеевич поплатился значительными ушибами плеча и ног. Анна же Яковлевна попала головой и лицом о камни и получила весьма опасную рану на голове. Их замертво перенесли на чью- то дачу.
Поздно вечером, когда их привезли домой, весть об этом несчастье немедленно дошла до Варвары Петровны.
Порфирию Тимофеевичу приказано было скорей бежать в тот дом. Всю ночь мы не спали, и беспрестанно посылались гонцы, чтобы узнать, что сказал Федор Иванович Иноземцев. Нет ли большой опасности? Уснули ли больные? Варвара Петровна ужасно беспокоилась тем более, что сама была настолько нездорова, что выезжать не могла. Когда ей стало несколько лучше, она послала сказать сыну, что сама приедет его навестить; при этом велела ему дать понять, что желает видеть его одного.
Довольно долго просидела она у сына и, уходя, подошла к затворенной двери смежной комнаты, где лежала Анна Яковлевна и довольно громко сказала своей невестке: - Je vous souhaite de vous remettre au plus vite (Желаю вам как можно скорее поправиться.).
А между тем мы все ждали Ивана Сергеевича со дня на день, ожидая, что его доброта и любовь благотворно подействуют на его мать.
В одном из своих писем он выражал ей радость свою опять свидеться с нею, с братом, теперь уже женатым, со всеми близкими ей, и сожалел о том, что лишен будет удовольствия видеть дядю Николая Николаевича, и что его отсутствие в доме матери будет заметно и грустно. Когда Иван Сергеевич уезжал за границу в 1846 году, Николай Николаевич еще не окончательно разошелся с невесткой.
Сама Варвара Петровна не стала писать деверю, а предоставила мне известить его о приезде любимого племянника, при этом не дала мне никаких инструкций относительно тона моего письма. Я приняла это за разрешение писать Николаю Николаевичу с теми же выражениями любви, уважения и благодарности, которыми были всегда наполнены мои письма к нему.
Вскоре я получила его ответ. Самое его письмо лучше всего дает понятие о необыкновенной доброте этого человека, о его любви к Ивану Сергеевичу и о его безграничной привязанности и преданности Варваре Петровне, которая так жестоко отвергла его за его новую семейную жизнь.
"1850 года, апрель 17-е, село Юшки.
Христос воскресе!
Поздравляю тебя, мой милый дружок Варенька. Душевно желаю всех благ господних. Благодарю тебя, мой ангел, за приятное уведомление о возвращении Ивана Сергеевича. С той минуты, как я получил твое письмо, чувствую возвращение к жизни. Я не умею тебе описать своей радости. Я никак не ожидал получить столь дорогой сердцу подарок. Очень рад возвращению Ивана Сергеевича, но вдвое рад твоему письму, которое, вероятно, писано с позволения мамаши. И потому полагаю, что не совсем еще исчезла память обо мне.
Я не смею ее своим письмом тревожить. Прошу тебя, мой милый друг, передать искренние чувства моей дружбы. Я во многом нахожу себя виновным. Быть может, что я своим поступком навлек неудовольствие и даже огорчение, что терзает мою душу. Не имея другого способа к излечению сердечной моей язвы, я прибегаю к торжественному воскресению Христа спасителя нашего. В сии дни священные все враждующие да примирятся и во имя спасителя друг друга обнимут. Успокой мою скорбь душевную, возьми на себя труд поздравить от меня мамашу. Поцелуй ее руку и испроси мне прощение. Ты своим последним письмом возвратила мне жизнь. Не лишите меня последнего, возвратите спокойствие душевное. Жизнь наша столь скоротечна, что не успеешь изгладить следы своего преступления. В особенности моя жизнь но обстоятельствам столь отяготительна, что я лишен всех средств когда-либо лично вас видеть.
Буду с нетерпением ждать твоего ответа.
Остаюсь искренне тебя любящий
Но и это письмо, со всеми его выражениями любви и надеждами на примирение, не тронуло Варвару Петровну. Отвечала на него опять я же. Я писала, что и maman, и все мы летом, вероятно, будем в Спасском и там может быть увидимся. Но ни приглашения от Варвары Петровны и ни слова от нее лично в моем письме Николаю Николаевичу не было.
Нашему общему всем свиданию в Спасском не суждено было совершиться. Лето это было для всех нас самым тяжелым и горестным. Ни радостных свиданий, ни семейного согласия.
В доме Тургеневых разыгралась семейная драма, которая осталась и теперь в памяти живых, и тяжелым гнетом лежала на сердце умерших до их последней минуты.
Весною Иван Сергеевич был уже в Петербурге (Тургенев выехал из Штеттина в Петербург на пароходе 17 июня 1850 года.). По разным обстоятельствам он был там довольно долго задержан, что внушало серьезное беспокойство его матери.
Но вот приехал ее Вениамин. Слезам радости и восклицаниям не было конца. Тут я встретилась с Иваном Сергеевичем уже не ребенком, а семнадцатилетней девушкой. При первой встрече мы обнялись с ним, как и прежде, но тех дружески-детских отношений, конечно, быть не могло: мы отвыкли друг от друга, и притом лета наши уже не допускали прежней интимности.
Первые дни свидания. Постоянные расспросы со стороны матери и постоянные рассказы со стороны сына. Иван Сергеевич был весел и разговорчив. С особенным удовольствием говорил он о графе В-ком и о тех лицах, которые сделали то, что довольно снисходительно посмотрели на его слишком долгое отсутствие из России.
Сначала все шло у нас хорошо. Варвара Петровна была в восторге. Весь дом принял праздничный вид. Говорилось об общей поездке в Спасское. Ивану Сергеевичу хотелось ехать туда в первых числах июля, когда настанет время охоты. Мать и на это согласилась и решила сама пробыть в Москве до этого срока.
В этот год круг знакомств Ивана Сергеевича значительно расширился. Он уже был известен (Начиная с 1838 г., Тургенев систематически участвовал в литературной жизни, печатая в журналах стихотворения, поэмы, переводы и рецензии. К 1850 г. им были написаны и напечатаны такие произведения, как "Записки охотника", "Андрей Колосов", "Три портрета", "Параша", поэма "Андрей" и др. Пьесы его: "Где тонко, там и рвется", "Завтрак у предводителя", "Холостяк", "Нахлебник" были уже известны и частично шли на сцене или готовились к постановке. В. Г. Белинский отмечал Тургенева в своих статьях, как талантливого, многообещающего. писателя.) (надо впрочем заметить, что как писатель он был известен в Москве, но не у нас в доме: у нас его не читали). Приглашения сыпались ему со всех сторон. Он редко даже обедал дома. Но все свои утра, почти до двух часов, проводил он с матерью.
Нельзя было и требовать большего. Сама Варвара Петровна не удерживала долее сына при себе. Она довольствовалась своими утрами, которые всецело принадлежали ей, потому что здоровье ее не позволяло ей иметь приемов, и у нас, по правде сказать, было довольно скучно.
Но постоянное почти отсутствие Ивана Сергеевича из дому особенно неприятным показалось одной, весьма милой даме, бывшей когда-то, даже еще чуть ли не девушкой, предметом юношеской, пылкой, но безнадежной любви Ивана Сергеевича (Тургенев неоднократно упоминал о том, что сюжет рассказа "Первая любовь" взят им из его юношеских переживаний, а в лице отца Володи изображен С. Н. Тургенев. Про "Первую любовь" Тургенев говорил: "Она, пожалуй, мое любимое произведение. В остальных, хотя немного, да выдумано, в "Первой любви" описано действительное происшествие без малейшей прикраски, и при перечитывании действующие лица встают, как живые передо мною". (А. Половцев, "Воспоминания". Календарь "Царь-колокол" на 1887 г., стр. 77).). Это было очень давно, он был тогда что называется мальчик. Любовь его даже не польстила самолюбию красавицы. Она не обратила внимания на воздыхающего по ней юношу. Когда же Иван Сергеевич возвратился нынешний раз из-за границы, он был во всем блеске своей зрелой красоты и начинающейся славы. Проседь, проглядывавшая тогда уже в его волосах и бороде, придавала еще более интереса его прекрасному лицу. О нем говорили, он уже значил, и его внимание и светское ухаживание могли быть лестны для всякой женщины. Красавица, отвергнувшая мальчика, вспомнила, что этот самый, теперь уже Тургенев, юношей вздыхал по ней.
А какой женщине не приятно проверить, все так же ли действуют чары ее красоты?
Впрочем может быть и не с целью возбудить прежнюю любовь, может быть из одного любопытства или даже из желания только увидать Ивана Сергеевича и пригласить его бывать у ней, чтобы иметь возможность сказать: "Тургенев был у меня",- точно определить не берусь. Но видно было, что для этой дамы знакомство с Варварой Петровной, ограничивавшееся в последнее время двумя, тремя визитами в год, стало должно быть одним из приятнейших, потому что карета ее все чаше и чаще стояла у подъезда нашего дома и все продолжительнее и продолжительнее были ее визиты, увы! не приносившие ей того, что она желала.
Когда она приезжала утром, Иван Сергеевич, сидевший у матери в широком сюртуке или пальто, убегал немедленно к себе наверх и не показывался. Если же она приезжала вечером часов в восемь, его не было дома.
После нескольких неудач дама решила приехать, под благовидным предлогом, в неуказанное по светскому кодексу время между 6 и 7 часами вечера, рассчитывая, вероятно, что если Иван Сергеевич обедал дома, то в это время еще не успел уехать.
Несмотря на свои без малого сорок лет, дама эта охранила следы замечательной красоты. Ее туалет, несколько ей не по летам - белое кисейное платье, розовый пояс, дорогая черная кружевная накидка на плечах и такая же косынка, надетая по-испански на голове - гак шел к ней, что ею можно было любоваться. При матовой бледности ее лица, утратившего уже румянец молодости, еще более выигрывали ее прелестные черные глаза, про ресницы которых Варвара Петровна говаривала: "это не ресницы, а маркизы".
Я заехала узнать о вашем здоровье, Варвара Петровна, сказала она, входя.- Vous me pardonnez cite toilette champêtre. Je vais passer la soiree chez ma soeur au parc. Et puis il fait si chaud Je n'ai pu mettre que cela (Вы мне простите мой деревенский туалет. Я еду провести вечер у сестры в парке. И при том же так жарко. Я только это и смогла надеть.).
Варвара Петровна сделала вид, что поверила, хотя от ее проницательности не ускользнуло, что "деревенский туалет" вполне рассчитан, и ответила весьма тонко:
Vous n'en êtes que plus belle, vous me rappelez vos dix - sept ans (Вы в нем еще лучше. Вы мне напоминаете себя в семнадцать лет.).
Но к несчастью и тут ее постигло грустное разочароние. В этот вечер Иван Сергеевич и я уже совсем приготовились ехать верхами на бег и в парк. Лошади были уже оседланы, и моя Софья Николаевна Шрёдер уже в шляпе и перчатках готовилась садиться в карету, чтобы сопровождать нас.

В. Н. Житова. Фотография
Иван Сергеевич сошел с верха тоже уже одетый для катанья и со шляпой в руке. Посидел он с четверть часа, сказал несколько светских приветствий и любезностей гостье своей матери и обратился ко мне:
- Ну что же, Варенька, едем? Скоро семь часов.
И мы поднялись.
На другой день утром мать начала подшучивать над Иваном Сергеевичем и, смеясь, укорять его в равнодушии к красоте гостьи:
- Pour une femme, qui frise la quarantaine, elle est très belle encore. Elle a fait tant de frais pour vous, et vous avez été fort peu aimable (Для женщины, которой без малого сорок, она еще очень хороша. Она так старалась для тебя, а ты был весьма нелюбезен.).
Иван Сергеевич сидел у письменного стола матери и что-то чертил карандашом.
- Да!-сказал он,- я был тогда мальчишкой, а я ведь страдал. Помню, она бывало мимо меня пройдет, так сердце вырваться хочет. Прошло это золотое время. Теперь уж так не любишь. Того юношеского жару нет, нет той любви, которая довольствуется взглядом, цветком, упавшим с головы. Поднимешь этот цветок и счастлив, и больше ничего не надо.
Я подошла к столу, у которого он сидел. Перед ним лежал исписанный и исчерченный лист бумаги. Я нагнулась, чтобы прочесть, и ничего разобрать не могла. Он сам, видя мое затруднение, прочел мне, но только последние четыре строчки:
Скажи мне, мог ли я предвидеть, Что нам обоим суждено И разойтись, и ненавидеть, Любовь, погибшую давно.
(Стихотворение И. С Тургенева "Когда так радостно, так нежно глядела ты в глаза мои...", написанное в июле 1843 г., впервые напечатано под заглавием "Вариации" в литературном сборнике "Вчера и сегодня", кн. 1, СПб., 1845 г.)
Как все барышни того времени, я была любительницей всяких стихов. Очень понятно, что я и эти хотела сберечь, но каллиграфия Ивана Сергеевича, всегда не отличавшаяся особенною четкостью, а тут еще карандашом и на листе, испещренном разными причудливыми фигурами, еще менее мне понравилась, и я предпочла эти стихи иметь списанными. С этою целью я побежала в контору и упросила конторщика Леона Ивановича мне их списать, что он и исполнил самым четким и красивым почерком. В таком виде эти стихи сохраняются у меня и теперь.
Стихи эти не относились к этой даме. Они только, вероятно, пришли на ум Ивану Сергеевичу в это утро. Они были в печати еще в 1846 году и подписаны: Т. Л.
Этим эпизодом оканчивается все, что было не печального в последние месяцы моей жизни у Варвары Петровны.
Тяжело и грустно вспоминать и рассказывать все, что совершилось затем в последующие дни. Единственная отрадная сторона в этой драме, и над которой невольно умиляешься,- это воспоминание о редкой сыновней почтительности Николая и Ивана Сергеевича к матери. Несмотря на ее жестокое глумленье над ними, они остались все теми же покорными сыновьями, готовыми даже быть и нежными, если бы она сама их не оттолкнула.
Наступил июль месяц. Николай Сергеевич все более и более находился в стесненных обстоятельствах. Его болезнь и болезнь жены, вследствие происшествия в парке, стоили ему больших денег. Иван Сергеевич тоже, бывая с приятелями и знакомыми, не имел даже возможности ответить бутылкой вина на их угощение. Не раз брал он у Леона Ивановича или Порфирия Тимофеевича по 30 и 50 копеек, чтобы заплатить извозчику, привозившему его домой.
Такое безденежье у Ивана Сергеевича и такая насущная потребность в деньгах у Николая Сергеевича вынудили братьев заговорить об этом с матерью.
В самых нежных и почтительных выражениях просили они мать определить им хоть небольшой доход, чтобы знать, сколько они могут тратить, а не беспокоить ее из-за каждой необходимой безделицы. Варвара Петровна выслушала сыновей без гнева и совершенно согласилась с необходимостью определить им известный доход.
А между тем дни проходили за днями и никаких распоряжений - полнейшее молчание.
Иван Сергеевич возобновил разговор.
- Я не столько тебя прошу за себя, как за брата,- говорил он матери.- Я как-нибудь проживу сочинениями и переводами. А у него ничего нет, ему скоро есть будет нечего.
- Все, все сделаю,- ответила Варвара Петровна,- оба вы будете мною довольны.
Действительно, в одно утро главному конторщику Леону Ивановичу отдан был приказ написать на простой бумаге две дарственные, по которым Варвара Петровна именье Сычево отдает в распоряжение сына Николая, а Кадное - сыну Ивану.
Дарственные эти написаны дома, без соблюдения законных форм.
По ее требованию пришли сыновья однажды утром. Она им прочла черновые и спросила:
- Довольны ли вы теперь мною?
Николай Сергеевич молчал, а Иван Сергеевич ответил:
- Конечно, maman, будем довольны, и будем благодарить тебя, если ты все так сделаешь и все оформишь.
- То есть как оформишь? - переспросила Варвара Петровна.
- Что мне тебе объяснять, maman, ты сама знаешь, что значит оформить. И, если ты действительно хочешь что-нибудь сделать для нас, то и знаешь, как сделать надо.
- Я просто тебя не понимаю, Jean, чего ты еще от меня хочешь? чего еще? Я отдаю каждому из вас по имению... Я не понимаю.
Варвара Петровна любила часто употреблять это выражение "не понимаю" именно тогда, когда очень хорошо понимала, чего от нее хотят.
Николай Сергеевич продолжал молчать. Иван Сергеевич прошелся раза два по комнате и, не сказав ни слова, вышел.
- Nicolas! Что все это значит? - уже обиженно обратилась Варвара Петровна к старшему сыну.
Николай Сергеевич встал, хотел что-то ответить и бросился вон из комнаты.
Сыновья имели основание быть не только недовольными, но и оскорбленными поступками матери.
Леон Иванович сообщил им, разумеется тайно от своей барыни, что в это же утро старостам обоих имений по почте послан был приказ: немедленно и не останавливаясь дешевизною цен, продать в дареных имениях весь хлеб, имеющийся на гумнах и на корню. Спасскому же главному управляющему другой приказ: наблюсти за скорейшей продажей хлеба в вышесказанных имениях, и вырученные от продажи деньги немедленно выслать в Москву на имя самой Варвары Петровны. Что же оставалось в дареных барщинных имениях? Ни одного даже зерна для будущего посева...
Оба брата, понурив головы, вышли из дома. Иван Сергеевич к обеду не вернулся.
Всему, передаваемому мною, прошло уже 33 года. Память могла бы мне изменить, если бы все виденное и слышанное мною я сотни раз не рассказывала своим друзьям и своей семье и если бы все последующие сцены, еще раньше, не были мною в подробности описаны в переписке моей с племянницей Варвары Петровны, Сливицкой. Поэтому только каждое слово, даже жест все живо сохранилось в моей памяти.
Впрочем, такого рода сцены никогда не забываются. Те, кто имел когда-либо несчастие пережить семейную драму, знают по опыту, какими неизгладимыми чертами остаются навеки самые даже пустые, мельчайшие подробности в уме испытавшего на себе всю горечь семейной ссоры. Я же была и действующим лицом, и свидетельницей в этой драме, в том возрасте, когда всякое впечатление воспринимается необыкновенно живо. И на мне тогда все это отозвалось настолько сильно, что я даже сделалась больна.
Когда сыновья ушли, Варвара Петровна заперлась в своем кабинете с своим конторщиком: дарственные переписывались набело. В пять часов этого же дня я получила приказание отправиться в тот дом и объявить сыновьям, что она их ждет к себе в восемь часов вечера.
Я застала все семейство за обедом. Но по расстроенным лицам братьев и по заплаканным глазам жены Николая Сергеевича и его свояченицы видно было, что обед был подан больше для порядка. Блюда уносились почти нетронутыми. Иван Сергеевич был грустен, но спокоен. Николай Сергеевич, волновавшийся всегда во всем сильно, чуть не рвал на себе волосы, говоря о своей участи.
Когда я им объявила цель моего прихода, Иван Сергеевич спросил меня, есть ли перемена в форме дарственных и был ли стряпчий?
Я ответила правду: дарственные переписаны набело, подписаны Варварою Петровной, стряпчий не был, и на замечание ее домашнего поверенного по делам, что подобного рода бумаги законной силы не имеют, Варвара Петровна ответила:
- Пустяки!
- Все так же осталось, как и было,- почти про себя сказал Иван Сергеевич и озаботился спросить меня, не догадалась ли maman о том, что они знают о ее распоряжении насчет продажи хлебов. Он, конечно, опасался за Леона Ивановича, которого постигла бы горькая участь, если б его барыня узнала, что он сообщил сыновьям о ее приказах, посланных по почте.
Из слов моих сыновья поняли, что перемены к лучшему ожидать нечего. Ясно было, что мать ничего не желает им уделить законным порядком.
Более страдающим лицом при этом был Николай Сергеевич.
Ломая руки и со слезами на глазах заговорил он о том, что вынужден наконец переселиться в Тургенево, имение отца. Пречистенский дом он не считал своим, а на наследство после отца признавал за собою законные и нравственные права. Он предполагал доходы делить пополам с братом.
- Мне ничего не нужно,- перебил его Иван Сергеевич,- тебе самому едва будет чем жить. Я и без этого обойдусь.
Тут Николай Сергеевич зарыдал.
- Не то горько,- говорил он,- что я бросил службу и остался без куска хлеба. Горько то, что, предъявляя свои права на это наследство, я должен идти против матери. Это будет равняться жалобе на мать, которая до сих пор одна, без нас, владела этим имением. Кто таким образом не поймет это? А того ли мы с братом хотели? Вернуться в Петербург! - продолжал он все с большим отчаянием,- опять поступить на службу. Стыд, стыд. Что я скажу, что скажут. Мать обман...
И он не договорил, бросился на стул и закрыл лицо руками.
Водворилось тяжелое молчание, прерываемое всхлипыванием Анны Яковлевны, с которой сделался чуть не нервный припадок.
- Ну что же, брат, все же пойдем туда? - послышался мягкий голос Ивана Сергеевича.
- Я не знаю,- как-то безнадежно произнес Николай Сергеевич.
Я подала свой робкий совет непременно идти в восемь часов к maman, и выразила даже надежду на то, что может быть, все будет изменено к лучшему, хотя в душе я этого не сознавала: я боялась крупной ссоры между матерью и сыновьями, если они не исполнят ее приказания.
Оба обещались прийти в назначенный час.
- Ну что? - встретила меня Варвара Петровна, когда я взошла к ней.
- Они придут,- ответила я.
- Ну что они там?
- Ничего, они обедали, когда я пришла.
- Говорили же они о чем-нибудь?
И Варвара Петровна смотрела на меня так, что я не могла вынести ее грозного испытующего взгляда. Я опустила глаза.
- Что же ты молчишь? Что с тобой? - заметила она мой растерянный вид.- Что с тобой?
Этого последнего вопроса было достаточно. Тяжелая сцена у сыновей, во время которой я сдерживала слезы, чтобы не приехать домой с заплаканными глазами, этот мучительный предстоящий допрос тут от maman... Нервы не выдержали. Я почувствовала горло точно в тисках, что-то горячее подступило к нему, дыхание вырвалось с таким ужасным криком, что Варвара Петровна в испуге почти подбежала ко мне. Я схватила ее руку, хотела что-то сказать, и у меня хлынула кровь горлом.
- Порфирий! Кто там! Что с ней? - кричала Варвара Петровна.
Прибежали m-me Шрёдер и Медведева, и меня положили на диван.
Тут и мне пришлось отведать знаменитых лавровишневых капель. Но этот нервный припадок спас меня от дальнейшего допроса. Пожалела ли меня Варвара Петровна, или видела, что в положении, в котором я нахожусь, она едва ли чего-нибудь от меня добьется, но она свою досаду перенесла на бедную m-me Шрёдер.
- Что такое опять с Варенькой? - обратилась она к ней.- С ней давно уже этого не повторялось. Вы должны знать. Вы к ней приставлены. Было при вас что-нибудь подобное?
На отрицательный ответ она продолжала с тем же неудовольствием в голосе:
- Не может быть! Какая же сегодня причина? Она была совсем здорова. Это все быстрая верховая езда. Вы ее не останавливаете, вы за ней не смотрите. Это - ваша обязанность...
И тому подобные выговоры сыпались на бедную m-me Шрёдер.
А между тем мы все совершенно были убеждены в том, что Варвара Петровна догадывается, что припадок мой вызван чем-нибудь, случившимся в том доме. Она очень хорошо помнила, что была минута, в которую я была уже готова ей что-то высказать.
Нападая на m-me Шрёдер, она своим несправедливым выговором ей, вероятно хотела вызвать меня сказать ей всю правду, и не знаю, чем бы все это кончилось, если бы не взошел Порфирий Тимофеевич и но настоял на том, чтобы я была на воздухе.
- Ступайте на балкон! - приказала maman. Я вы шла и m-me Шрёдер последовала за мною.
В восемь часов пришли сыновья. Но я была настороже. Мне было бы крайне неприятно, если бы сыновья заподозрили меня в том, что я передала Варваре Петровне их разговор при мне. А что так или иначе Варвара Петровна постарается узнать настоящую причину моего внезапного нездоровья, я в этом была уверена, и не ошиблась.
- Что у вас там такое произошло? - встретила их варвара Петровна.- Варенька приехала на себя непохожа: с ней какой-то припадок, кровь горлом пошла. Что у вас там было? Я ничего не понимаю.
- Ничего, maman, там не было, там было очень весело,- вставила я свое слово, прежде чем кто-либо из них успел ответить на вопрос матери. Я стояла в дверях балкона, выходящего в гостиную, где сидела Варвар Петровна.
- Молчать!-закричала она мне,- тебя не спрашивают. Вон!
Я вышла в залу, значительно успокоенная. Теперь оба брата поняли, что мать их разговора и решения не знает.
Иван Сергеевич немедленно последовал за мною. На лице его выразилось столько доброты и участия. Он взял меня за руку и вопросительно смотрел мне в глаза.
Едва слышно шепнула я ему: "после, после", указала ему на дверь гостиной и он вернулся туда.
В зале был накрыт стол для чая.
Медведева понесла Варваре Петровне чашку. Лакей подал сыновьям стаканы. Из гостиной слышалось размешивание сахара ложечкой и стук колоды карт, которую Варвара Петровна тасовала для пасьянса. Несколько времени длилось молчание.
Все, что я видела и выстрадала в эти дни, так живо сохранилось в моей памяти и так сильно подействовало на всю мою жизнь, что нет возможности что-либо забыть.
Первая заговорила Варвара Петровна, распространяясь о разных сортах чая, какие она любит и какие ей не по вкусу. Потом перешла она на какой-то весьма не значительный разговор. Сыновья отвечали отрывочными фразами. Чувствовалось, что все трое нисколько не думали о том, что говорили. Какие-то неестественные ноты звучали в голосе каждого из говорящих.
M-me Шрёдер, Медведева и я сидели в зале. Почти не шевелясь, прислушивались мы к тому, что говорилось в гостиной, часть которой отражалась в громадном зеркале. Это позволяло нам видеть только белые, изящные руки Варвары Петровны, двигавшиеся по столу с картами, которые она раскладывала в кучки, всего Никола Сергеевича, сидевшего направо от нее, и всего Ивана Сергеевича, сидевшего у стола же, против матери.
"Вот, вот сейчас начнется", думалось каждой из нас. А если бы спросить, что начнется? Мы не могли бы даже ответить, что именно, но что-то ужасное.
Если бы в эту минуту в залу вошел совершенно посторонний человек, взглянув на нас, он, по одному выражению лиц наших, по нашим глазам, напряженно устремленным в отражавшуюся в зеркале картину, понял бы, что там творится что-то необычайное, чего мы все страшимся.
Наконец Варвара Петровна позвонила.
- Позвать Леона Ивановича,- приказала она вошедшему слуге.
- Принеси! - коротко сказала она показавшемуся в дверях конторщику.
Через несколько минут Леон Иванович принес два пакета и на подносе подал их своей госпоже.
Варвара Петровна посмотрела надписи и один из них подала Николаю Сергеевичу, другой Ивану Сергеевичу.
Прошло несколько секунд. Оба держали пакеты в руках. Иван Сергеевич пересел несколько дальше от стола.
- Прочтите же! - нетерпеливо произнесла Варвара Петровна.
Сыновья повиновались. Слышен был шелест бумаги при мертвой тишине, царившей в доме.
- Что же, благодарите меня! - и мать протянула правую руку Николаю Сергеевичу и левую Ивану Сергеевичу. Николай Сергеевич как-то машинально, молча поцеловал руку матери.
Видел ли, нет ли Иван Сергеевич протянутую руку - не знаю. Он сидел, низко опустив голову.
Через несколько секунд он встал, подошел к отворенной двери балкона, сделал несколько шагов обратно в комнату, опять вышел на балкон и, точно решившись, на что-то, быстро подошел к матери.
- Bonne nuit, maman (Спокойной ночи, маменька.), - сказал он тихо, так же, как говорил это дитятей, как говорил юношей, как всегда, ни словом, ни взглядом не выразив той скорби, которую выносил он этим глумлением матери над ними, нагнулся и поцеловал ее руку.
Мать перекрестила его так, как делала это всегда со всеми нами каждый вечер, и он вышел, быстро прошел через всю залу, не взглянув ни на кого из нас, и скоро мы услышали его шаги на лестнице. Он поднимался в занимаемые им комнаты наверх.
Николай Сергеевич еще не опомнился. Он сидел с каким-то тупым выражением лица, когда я вошла проститься с шатал. Варвара Петровна продолжала раскладывать свой пасьянс, но руки ее заметно дрожали, сдвинутые брови, глаза, упорно смотревшие на разложенные кучки карт, свидетельствовали о сдерживаемом пока гневе. Обыкновенно заботливая к моему здоровью, она на этот раз не взглянула даже на меня, и это было в первый раз во всю мою жизнь у ней.
Вслед за мной встал и Николай Сергеевич, произнеся обычное: bonne nuit, maman (Спокойной ночи, маменька.),- получил благословение и ушел, но не домой, а наверх к брату.
В доме погасили огни. Варвара Петровна удалилась в свою спальню, и когда Медведева вошла, чтобы по обыкновению растереть ей ноги, Варвара Петровна сказала "не надо" и махнула ей на дверь.
Сыновья, в комнате Ивана Сергеевича и в присутствии Порфирия Тимофеевича, от которого я это и узнала, решили предъявить свои права на наследство имением отца, с матерью же ни в какие ни споры, ни объяснения не входить и ни в какие увещания и упрашиванья не пускаться. Но понятно, в подаренные на бумаге имения не ездить. Они рисковали или не быть принятыми там, как владельцы, или подвергнуть жестокой ответственности тех, кто их таковыми там примет.
Тем бы все и кончилось. Сыновья, не упрекая мать ни в чем, остались бы все теми же, если бы сама Варвара Петровна не заставила, наконец, и кроткого Ивана Сергеевича высказать ей все, что долгие годы копилось у него на душе.
На следующее утро Иван Сергеевич пришел к матери, все так же, как и всегда, поздоровался с нею и объявил ей, что он едет в деревню, что время охоты наступило, и что и ей тоже пора выехать из душной Москвы.
Разговор шел в гостиной, и я, сидя в зале, в душе уже радовалась, что все обойдется благополучно, без бурных сцен. Торжество Варвары Петровны было полное. Власть ее над сыновьями не поколебалась. Она обещала им многое, ничего не исполнила, и ни один из них не высказал ей никакого неудовольствия. Покорно перенесли они ее злую насмешку над ними и даже ее любимец пришел ее уговаривать ради ее же здоровья уехать из Москвы. При всей ее страсти испытывать границы терпения, она могла бы быть удовлетворена, но ей хотелось еще большего. И власть ее сложилась не перед негодующим за себя сыном, а перед ее незлобивым, правдолюбивым Вениамином, который умел кротко и терпеливо молчать, когда мщение и обида касались его одного, но который в защиту брата и других не выдержал и высказал то, что ради самого себя никогда бы не сказал. Варваре Петровне пришлось раз в жизни выслушать правду, и эту горькую правду выслушала она от любимого сына.
По-видимому, Иван Сергеевич избегал всякого намека на вчерашний вечер. Он отмалчивался на многие вопросы матери, но она вдруг обратилась к нему, как сказать в упор:
- Скажи мне, Jean, отчего вчера, когда я тебе сделала такой подарок, ты даже не захотел благодарить меня?
Иван Сергеевич молчал.
- Неужели ты опять мною недоволен?
- Послушай, maman,- начал наконец Иван Сергеевич,- оставим этот разговор и все это. Зачем ты возобновляешь эту...
- Что же ты не договариваешь?
- Maman, еще раз прошу тебя, оставим это. Я умею молчать, но лгать и притворяться не могу, воля твоя, не могу. Не заставляй меня говорить, это слишком тяжело.
- Не знаю, что тебе тяжело,- неумолимо продолжала Варвара Петровна,- а мне обидно. Я все делаю ля вас, вы же мною недовольны.
- Не делай для нас ничего. Мы теперь у тебя ничего не просим, пожалуйста, оставь, будем жить, как жили.
- Нет, не так, как жили! У вас теперь есть свое,- неумолимо продолжала пытать Варвара Петровна.
- Ну, зачем, скажи, зачем ты это говоришь? - не вытерпел наконец Иван Сергеевич,- у нас вчера ничего не было и сегодня ничего нет, и ты сама это хорошо знаешь.
- Как ничего! - вскрикнула Варвара Петровна.- У брата дом, именье, у тебя именье!
- Дом! А знаешь ли ты, что брат слишком честен, чтобы считать этот дом своим! Он не может исполнить тех условий, при которых он тобою дан. Ты требуешь, чтобы он жил в нем, а ему жить нечем, есть нечего.
- Как? а именье!
- Никакого именья нет, и ничего ты нам не дала и ничего не дашь. Твои дарственные, как ты их называешь, никакой силы не имеют. Завтра же ты можешь отнять у нас то, что подарила нам сегодня. Да и к. чему все это? Имения твои, все твое. Скажи нам просто: не хочу ничего вам дать - и ты слова от нас не услышишь. Зачем вся эта комедия?
- Ты с ума сошел!- закричала Варвара Петровна,- ты забываешь, с кем ты говоришь!
- Да я и не хотел ничего говорить, я желал молчать. Разве мне легко все это тебе говорить. Я просил тебя оставить...
И в голосе его слышалась такая тоска. Казалось, слезы душили его.
- Мне брата жаль,- продолжал он после некоторого молчания.
- За что ты его сгубила? Ты позволила ему жениться, заставила его бросить службу, переехать сюда с семьей. Но ведь он там жил, жил своими трудами, у тебя ничего не просил и был сравнительно покоен. А тут со дня его приезда ты его на муку обрекла, ты постоянно его мучаешь, не тем, так другим.
- Чем? скажи чем? - волновалась Варвара Петровна.
- Всем! - уже с отчаянием и не сдерживаясь воскликнул Иван Сергеевич.- Да кого ты не мучаешь? Всех! Кто возле тебя свободно дышит? - и он крупными шагами заходил по комнате - Я чувствую, что не должен тебе это говорить. Прошу тебя, оставим...
- Так вот ваша благодарность за все.
- Опять ты, maman, опять ты не хочешь понять, что мы не дети, что для нас твой поступок оскорбителен. Ты боишься нам дать что-нибудь, ты этим боишься утратить свою власть над нами. Мы были тебе всегда почтительными сыновьями, а у тебя в нас веры нет, да и ни в кого и ни во что в тебе веры нет. Ты только веришь в свою власть. А что она тебе дала? Право мучить всех.
- Да что я за злодейка такая!
- Ты не злодейка, я сам не знаю, ни что ты, ни что у тебя творится. Проверь сама, вспомни все.
- Что такое? Какое я кому зло делаю?
- Как кому? Да кто возле тебя счастлив? Вспомни только Полякова, Агафью, всех, кого ты преследовала, ссылала. Все они могли бы любить тебя, все бы готовы были жизнь за тебя отдать, если бы... А ты всех делаешь несчастными. Да я сам полжизни бы отдал, чтобы всего этого не знать и всего этого тебе не говорить. Тебя все страшатся, а между тем тебя бы могли любить.
- Никто меня никогда не любил и не любит, и даже дети мои и те против меня!
- Не говори этого, maman, все мы, и мы первые, твои дети готовы...
- Нет у меня детей! - вдруг закричала Варвара Петровна. - Ступай!
- Maman! - бросился к ней Иван Сергеевич.
- Ступай! - еще громче повторила ему мать, и с этим словом она сама вышла и захлопнула за собой дверь.
Проходя через залу, Иван Сергеевич увидал меня, я платком старалась заглушить крик и рыдания, готовые вырваться из груди. Он положил мне руку на плечо.
- Перестань, ты опять заболеешь. Что делать, я не мог! - и слезы текли по щекам его.
Через несколько минут я из окна увидала его. Он шел по переулку по направлению к дому брата. И теперь его высокая, стройная фигура перед моими глазами. Кто бы его встретил в эту минуту, не усомнился бы в том, что это идет человек, глубоко несчастный. Так вся его походка и осанка выражали полное отсутствие сознания чего-либо окружающего. Он шел, опустив голову: казалось, что она склонилась под тяжестью безысходного тяжкого горя.
Но и Варваре Петровне было не легко. Она только сдерживала себя, пока сын уйдет. Представить себе можно, как на нее подействовали его слова.
С ней сделался нервный припадок. Долго не могла она успокоиться. Кроме Порфирия Тимофеевича и Медведевой, с ней никого не было. Что происходило при этом во всем доме, легко понять. Настолько ужасен был у нас этот день, что, кроме тяжелой сцены утром, я ни о чем думать не могла. Я перебирала в уме своем все слышанное. В ушах моих звучали то слова Ивана Сергеевича, то отрывочные фразы Варвары Петровны. Много лет прошло, и ничто не забыто мною.
Вечером maman позвала меня.
- Ступай туда! - И на мое недоумение и немой вопрос, она нетерпеливо повторила: - туда, туда. Вели запречь.
Я поехала к Николаю Сергеевичу. Для чего, зачем,- сама не знаю.
Первое, что мне бросилось в глаза в пречистенском доме,- это повсюду расставленные сундуки, ящики и чемоданы, свидетельствующие о сборах в дорогу. Укладывались, чтобы ехать в Тургеневе.
Николай Сергеевич сидел в своем кабинете и что-то писал. Иван Сергеевич тут же ходил взад и вперед.
Я взошла, бросилась на первый попавшийся стул и горько заплакала. Иван Сергеевич принес мне воды.
Когда я несколько успокоилась, первым со мной заговорил Николай Сергеевич.
- Вас маменька прислала?
- Да.
- Что же, она поручила вам что-нибудь сказать?
- Нет, она велела мне ехать сюда, я не знаю зачем. Что мне ей сказать?
Николай Сергеевич с видом Отчаяния схватился за голову.
- Правду и правду надо сказать! - резко вступился Иван Сергеевич.- Скажи, что мы собираемся в Тургенево и завтра же едем.
Я наотрез отказалась это передать.
- Скажите маменьке,- начал Николай Сергеевич,- что я умоляю ее прочесть вот это письмо,- и он указал на недописанный еще лист бумаги, лежащий на столе.- Это письмо я пришлю ей завтра утром. Сегодня она уже и так слишком расстроена, я не хочу ее беспокоить.
- Что маменька? - спросил Иван Сергеевич.
Я рассказала все, что у нас происходило.
Иван Сергеевич слушал меня, стоя у окна и прислонившись головою к стеклу. Лица я его не видала, но видела, что он поднес платок к глазам.
- Я завтра приду,- сказал он, не оборачиваясь.
Я уехала, донесла Варваре Петровне о письме и о просьбе Николая Сергеевича и ждала допроса, как смерти. Но она махнула мне рукой уйти.
На другое утро ей подали письмо Николая Сергеевича. Всем нам было известно содержание этого письма. Он писал, что едет в Тургенево с намерением вместе с братом ввестись во владение этим имением, уверял мать в любви и готовности служить ей и просил только простить ему этот поступок, который он вынужден сделать ради существования своего и своей семьи.
Иван Сергеевич пришел сам.
Без доклада к Варваре Петровне сыновья входить не смели. Я постучалась в дверь.
- Взойди,- был мне ответ.
- Jean est venu, maman, peut il entrer? (Иван пришел, маменька, можно ему войти?)
Тогда вместо ответа Варвара Петровна подошла к своему письменному столу, схватила юношеский портрет Ивана Сергеевича и бросила его об пол. Стекло разбилось вдребезги, а портрет отлетел далеко к стене.
Когда взошла горничная и хотела его поднять, Варвара Петровна закричала: оставь! и так портрет пролежал от первых чисел июля до первых чисел сентября.
Ивана Сергеевича она не захотела принять, и он, собрав кое-что из своих вещей наверху, велел их отнесть к брату на Пречистенку. Он сделал еще попытку быть принятым матерью и, получив отказ, ушел.
Я провожала его на крыльцо. Он простился со мною.
- Я не мог, что делать,- были последние его мне слова, высказывавшие его сожаление о вчерашней сцене.
На следующий день, часов в двенадцать, на отданное мне приказание ехать туда, я уже без затруднения поняла, что это значит.
Когда я подъехала к пречистенскому дому, ворота были затворены. Вышел оставшийся еще при доме кучер и объявил мне, что молодые господа сегодня утром выехали на почтовых по тульскому тракту.
Тяжело переживаются такие дни. И теперь еще чувствую ту страшную внутреннюю дрожь, которую я испытала тогда, входя к Варваре Петровне с известием об отъезде ее сыновей.
- Как? уехали? - казалось, не верила она.
Я должна была повторить. Тут произошла такая сцена, которую я даже не в состоянии описать. С Варварой Петровной сделался точно припадок безумия. Она смеялась, плакала, произносила какие-то бессвязные слова, обнимала меня и кричала "ты одна, ты одна теперь!"
Кроме меня, с ней никого не было в комнате. Мне было страшно, я закричала:
- M-me Шрёдер! M-me Шрёдер!
M-me Шрёдер вбежала. Мгновенно стихла Варвара Петровна, сурово посмотрела на вошедшую и сдавленным голосом сказала ей:
- Ступайте!
Мы опять остались одни.
- Comment osez vous appeler des étrangers quand votre mere est presque en demence (Как ты смеешь звать посторонних, когда твоя мать почти в безумии.), - грозно крикнула она мне.
Но прерванный припадок не возобновлялся. Я продолжала стоять. Руки и ноги дрожали, я готова была упасть. По знаку Варвары Петровны я подала ей стакан воды. Стакан выпал у ней из рук и вода пролилась на ее капот. Она позвонила.
- Оботри,- сказала она вошедшей горничной.- Который час? - спросила она уже совсем твердым, спокойным голосом.
Было около двух часов дня. Варвара Петровна велела позвать Медведеву.
- Саша! - с некоторой расстановкой заговорила Варвара Петровна.- Ступай к Андрееву, прикажи заготовить все, что нужно взять в деревню, мы едем в Спасское. Со мной едешь ты, Варенька, и Порфирий, в одной карете на почтовых. Шредерша и все остальные приедут после. Со мной уложить только самое необходимое для меня и Вареньки, одну каретную важу.
И с этим последним словом все у нас замолкло. Ни слова, кроме коротких приказаний, не произнесла Варвара Петровна в последующие дни. Все мы говорили шепотом или даже объяснялись знаками.
Большая каретная важа внесена была в уборную. Горничная старалась неслышно отворять шкафы и отодвигать ящики комодов, из которых она вынимала платье и белье, которые она укладывала, чтобы не загреметь ключами, завертывала их в носовой платок и весьма осторожно поворачивала ими в замках, потому что Варвару Петровну, когда она бывала расстроена или больна, всякий стук особенно раздражал. В таких случаях она обыкновенно грозно произносила:
- Я слышу ключи!
Или: - Я слышу тарелки или ложки! - И тогда все замирало. Люди (т. е. прислуга) двигались, как тени.
Когда у нас в доме наступали такие дни, мне случалось даже с свойственной детству и юности способностью во всем найти веселую или смешную сторону, смеяться потихоньку над этими двигающимися тенями. Но на этот раз вся эта тишина приняла такой грустный, тяжелый оттенок, казалось, действительно кто-то, или, вернее, что-то умерло в доме.
Все мы сознавали, что на этот раз мы не подчинялись ни капризу, ни произволу Варвары Петровны, что не власть ее нас давит, но что она подавлена сама под тяжестью ею же самою вызванных обстоятельств.
Через несколько дней мы уехали в Спасское.
На крыльце Спасского дома встретили нас Поляков и его жена. Они прожили весь этот год в деревне: он по делам, жена по болезни. Агашенька со страхом и грустью (такова была ее преданность) взглянула на свою барыню. Варвара Петровна была не та. Что за перемена? в чем она состояла? уяснить она себе этого не могла, но ее, несмотря ни на что, преданное сердце болезненно сжалось. Ей стало жаль своей барыни.
Когда же я рассказала Агашеньке все, что произошло у нас в Москве, она сказала только:
- Ну! теперь всем нам беда будет!
Но и в Спасском было все то же. Та же тишина, то же молчание, и только односложные вопросы и приказания со стороны Варвары Петровны.
Прошло дня три или четыре, и мне позволено было прокатиться верхом с целью навестить старушек в Петровском. Совсем уже одетая и с хлыстиком в руке вошла я к Варваре Петровне. Я застала ее в страшном гневе. Перед ней стоял Поляков весь бледный и с дрожащими губами.
От кого и как узнала Варвара Петровна, вернее всего от какого-нибудь мальчишки садовника, не посвященного в семейную драму, что за день до нашего приезда в Спасское молодые господа и молодая барыня (Анна Яковлевна) приезжали в Спасское, осматривали дом, сады, оранжереи и грунтовые сараи.
Действительно, Николай Сергеевич и Иван Сергеевич, предвидя, что при текущих обстоятельствах въезд в Спасское будет им воспрещен, воспользовались отсутствием матери, чтобы посетить свое родное гнездо.
- Как ты смел пустить их сюда? - кричала она Полякову.
- Я не посмел им отказать, сударыня,- довольно твердо ответил Поляков,- они наши господа.
- Господа! Господа! Я твоя госпожа и больше никто! - И с этими словами она вырвала из рук моих хлыстик и ударила им в лицо Полякова.
И это был последний припадок гнева Варвары Петровны.
С этого дня здоровье ее все слабело. Водяная делала быстрые успехи. Одышка становилась все сильней, и по утрам опухоль лица и в особенности глаз все делалась заметнее.
Дни шли за днями, однообразно, и жилось далеко не весело. Варвара Петровна, однако, ни на кого не гневалась, никого не преследовала. С физическими силами, казалось, угасала и власть ее. Она уже не проявлялась ни в каких резких поступках.
Дети ее жили в Тургеневе за 15 верст. Они писали ей письма, не получая от нее ответа. Иван Сергеевич приезжал иногда тайно осведомиться о здоровье матери, и я даже ни разу не видала его. Порфирий Тимофеевич все менее подавал надежд на улучшение состояния здоровья своей барыни. В особенности беспокоило его дыхание Варвары Петровны: оно доказывало присутствие водяной в груди. Он начал поговаривать об обратной поездке в Москву, где советы и помощь Федора Ивановича Иноземцева могли бы принести ей облегчение.
В одно утро Варвара Петровна почувствовала себя очень дурно. В несколько часов собралась она и уехала в Москву, взяв с собою только доктора и Медведеву. Она даже меня оставила в Спасском и велела нам с m-me Шрёдер последовать за ней, как только все будет приведено в порядок и уложено.
Дня через два после ее отъезда, вечером, часов в 11 я услыхала стук в стекло балконной двери. M-me Шрёдер испугалась и кричала мне не отворять, но я подошла к двери и отворила: передо мной стоял Иван Сергеевич, весь промокший, прямо с охоты, с ружьем и сумкой.
- Как маменька? Что ее здоровье? - были первые слова его.- Я слышал, она очень больна. Опасна она?
Я его успокоила насчет того, что видимой еще особенной опасности нет, и что страха за очень быстрый исход Порфирий Тимофеевич не высказывал.
Иван Сергеевич взошел в залу, где горела единственная сальная свеча в медном подсвечнике. Расчетливый Михаил Филиппович находил, что для одной барышни и мадамы (т. е. госпожи Шрёдер) в зале и одной свечи достаточно, и упорно стоял на этом, несмотря на наши требования.
Мы кончили ужин раньше. Ивану Сергеевичу накрыли на стол одному. Он пригласил нас с m-me Шрёдер сесть возле него и рассказать ему, как мы жили, как провели лето.
Рассказывать было нечего. Да и сам Иван Сергеевич был скучен и озабочен. Я тоже невесела: разлука с больной Варварой Петровной меня мучила. Разговор не клеился. В комнате стало еще темнее от нагоревшей свечи, да и все это мое свидание с Иваном Сергеевиче! было какое-то темное: ни радости при встрече, ни надежд на лучшее будущее. Каким-то мрачным пятном так и осталось оно в памяти моей.
- Я скоро приеду в Москву и опять постараюсь сойтись с маменькой,- сказал он мне прощаясь, чтобы идти в свой флигель.
Наконец, m-me Шрёдер, поняв, что ему неловко при ней затрагивать самые интимные стороны его отношений к матери, оставила нас одних.
- Что делает маменька с нашими письмами? - спросил он меня вполголоса.
- Она их читает,- ответила я.
- Ужасно тяжело мне. Меня постоянно мучит то, что я тогда не выдержал и все это сказал,- тихо продолжал он,- лучше было бы уж молчать до конца Прощай! - и он быстро вышел.
Наступил и день моего отъезда в Москву. Я покинула Спасское, и мне даже и в голову не приходило, что я вижу его в последний раз.
Приехав в Москву, я узнала, что Иноземцев определил положение Варвары Петровны безнадежным. К водяной присоединился маразм, полнейшее отсутствие аппетита. Она питалась исключительно виноградом и позже фруктовыми морожеными. Было ли то предписание докторов или ее собственная прихоть, сказать не могу.
Знаю только, что это длилось почти два месяца, и что Иноземцев весьма восторженно говорил о необыкновенной силе ее организма и об этой замечательной натуре, живущей и мыслящей все так же здраво на 70-м году жизни, при такой ничтожной поддержке. По целым часам просиживал он при постели Варвары Петровны и в разговорах с нею не замечал времени.
Но Варвара Петровна чувствовала приближение смерти и часто об этом со мной говорила.
Характер ее значительно изменился. Но перемена эта ничем противоположным прежнему резко не высказалась. Не было ни капризов, ни выговоров, ни гнева; но не было ни кротости, ни смирения, ни особенной нежности. Она смолкла. С домашними говорила вообще мало, и если говорила или приказывала что, то таким ровным, негромким голосом, из которого даже мое привычное ухо не могло вывести никакого заключения о состоянии ее духа.
К любимцу ее Ивану Сергеевичу ее прежнее чувство высказалось следующим: портрет, брошенный в минуту гнева, был восстановлен и стоял опять на столике возле нее.
Вдоль ее кровати красного дерева, на которой она и скончалась, приделана была полочка такого же дерева, на которой лежала все та же знаменитая коробка в форме книги и с надписью: Feuilles volantes (Отдельные листки.). На этих-то Feuilles volantes писала Варвара Петровна каждый день что-то карандашом.
Впоследствии, после ее кончины, читали мы эти исписанные листки (О предсмертном дневнике В. П. Тургеневой см. прим, к стр. 32.); то был дневник или, точнее, исповедь.
О сыновьях своих во время болезни своей она не говорила, а мы боялись начать. Обо мне она очень заботилась.
На векселе, данном до моего совершеннолетия на имя Андрея Евстафьевича Берса, по требованию Варвары Петровны сделана была передаточная надпись на мое имя, по которой я должна была получить от ее наследников 15.000 серебром. Шкатулка моя с медной дощечкой и вырезанным на ней моим именем была приведена в порядок и известность. Рукою Леона Ивановича составлен был полный и подробный список того что в ней содержалось, а ключ хранился у меня.
Мне продиктовано было следующее письмо.
"Милые мои дети, Николай и Иван!
Приказываю вам по смерти моей выдать вольную Полякову и всему его семейству и выдать ему 1.000 руб. награждения; а также и доктору моему Порфирию Тимофееву вольную и 500 руб. награждения".
Подписано ее рукою; "Любящая вас мать Варвара Тургенева".
Подписав это письмо, она отдала его мне.
- Береги это письмо у себя,- сказала она,- и когда я умру, отдай его им и скажи, что я требую, чтобы они исполнили мою последнюю волю.
В двадцатых числах октября Николай Сергеевич, извещенный о близости кончины матери, время которой Иноземцев почти определил, приехал с семейством своим в Москву, в свой пречистенский дом.
Как ни старались мы наводить Варвару Петровну на разговор о сыновьях, она упорно о них молчала.
28 октября утром взошла я по обыкновению в спальню Варвары Петровны, и сказавши: Bonjour, maman! (Здравствуйте, маменька.) - громко, хотя и с дрожью в голосе, прибавила. Je vous félicite, c'est aujourd'hui le jour de naissance de Jean (Поздравляю вас, сегодня рождение Ивана.).
Разве сегодня уже 28? - сказала она чуть дрогнувшим голосом и взглянула на передвижной календарь, висевший на стене.
Вдруг глаза ее наполнились слезами. Я схватила ее руку и покрыла ее слезами и поцелуями. Еще бы минута и я бы заговорила с нею о ее сыновьях, которые тщетно выражали ей в письмах желание видеть ее. Но она вдруг выдернула свою руку из моих: Иди! Иди! - и своим носовым платком, которым она утирала слезы, она мне махнула на дверь.
Настаивать я не посмела и вышла.
По нескольку раз в день, тайно от матери, прибегал Николай Сергеевич узнать об ее здоровье. Гнев матери невыразимо мучил его. Он плакал и совершенно искренне клялся в том, что дал повод к разладу с матерью. Хотя после, когда острое горе утихло, ни один из них не должен был, по совести, в чем-либо себя упрекать.
Виноваты они против матери не были. Да она их и не считала виновными: из ее дневника мы это ясно видели, когда прочли те строки, которые относились к сыновьям ее. Глубоко в сердце хранила она к ним любовь. Призвать их, значило бы уступить, а в ней текла все та же лутовиновская кровь.
Видно было, что в ней происходила жестокая борьба, и этому тоже нашли мы доказательство в ее предсмертном дневнике. Позволяю себе привести здесь несколько слов из него. Вот что прочли мы на одном из листков:
"Ma mère, mes enfants! Pardonnez moi! Et vous, seigneur, pardonnez moi aussi, car i'orgueil, ce pêché mortel, fut toujours mon pêché!" (Мать моя, дети мои! простите меня! И ты, о боже, прости меня, ибо гордость, этот смертный грех, была всегда моим грехом.).
Долго выжидали мы и не находили удобного случая сказать Варваре Петровне, что ее сын Николай в Москве.
4-го ноября, день рождения Николая Сергеевича, я опять взошла утром к ней и после слов: - je vous félicite, maman, c'est le jour de naissance de Nicolas (Поздравляю вас, маменька, сегодня рождение Николая),- я тут же залпом, не переводя дух, прибавила:
- Nicolas est à Moscou (Николай в Москве.).
Варвара Петровна взглянула на меня своими все еще блестящими, выразительными, прекрасными глазами, точно хотела сказать что-то, но быстро Отвернулась, передвинула с места на место стоявшие на полочке флакончики, долго особенно внимательно разглядывала один из них и сказала: - Почитай мне.
Я взяла какой-то французский роман и с легкою дрожью в голосе начала читать. Но и это утомляло ее. Я прочла несколько страниц и услыхала:
- Довольно!
Какого именно числа, не помню, но дня за четыре или за пять до кончины своей, она пожелала исполнить христианский долг. Приглашен был приходский наш священник отец Павел от Успенья на Остоженке. Варвара Петровна исповедовалась и причастилась.
Слова ли духовника на нее подействовали, или по собственному побуждению, но за день до кончины своей она вдруг мне сказала:
- Николая Сергеевича! - и мне послышался прежний ее суровый, повелительный голос.
Вскоре вошел Николай Сергеевич. Он бросился на колени возле кровати матери.
Она притянула его к себе слабой уже очень рукой, обняла его, поцеловала и точно умоляющим шепотом произнесла:
- Ваню, Ваню!
- Я сейчас пошлю эстафету, maman,- ответил ей сын.
Ни упреков, ни объяснений не было между матерью и сыном. Он сел на кресле в ногах ее, я же на скамеечку, поближе к ней.
Раза два Варвара Петровна клала руку свою мне на голову:
- Не брось ее,- говорила она сыну.
Но свиданию ее с ее любимцем Иваном Сергеевичем не суждено было состояться. Иван Сергеевич своей матери в живых не застал.
Как это случилось? Почему это случилось? - осталось для меня загадкой. Еще до выраженного матерью желания видеть его времени было достаточно, чтобы известить его о предстоящей ее кончине. Дано же об этом было знать Николаю Сергеевичу.
Когда в 1880 году, за несколько дней до Пушкинского праздника, я в последний раз видела Ивана Сергеевича, он горько жаловался мне на это.
- Грустно мне, очень грустно,- говорил он мне,- что сделано было так, что я не был ни при кончине матери, ни при кончине брата (По-видимому, причиной того, что Ивана Сергеевича не известили своевременно ни о безнадежном состоянии его матери, ни о болезни его единственного брата была корыстная заинтересованность в наследстве Анны Яковлевны Тургеневой и ее родственников. В 1884 г. (письмо без обозначения месяца) Н. В. Житова писала М. М. Стасюлевичу: "И все это произошло от той же особы и той же семьи, которая в свою пользу лишила и милого нашего Ивана Сергеевича наследства брата, то есть от жены Николая Сергеевича и Маляревскнх". ("Стасюлевич и его: современники". III, СПб., 1912, стр. 672). Так же думал и сам писатель. 17/29 января 1879 г. он писал М. М. Стасюлевичу: "Брат мой, Николай Сергеевич, скончался..., окруженный мошенниками, которые; несмотря на его усиленные и повторенные просьбы, не дали даже мне знать об его болезни. Видно, они боялись, как бы я не приехал и не застал его еще в живых. Меня уже известили, что они, до наложения печатей, успели утащить 20.000 рублей наличными и конечно постараются лишить меня той малой части капитала (55.000 р. из 520.000 р.), которую он мне оставил по завещанию, сделанному им в их пользу". ("Стасюлевич и его современники",- III, стр. 159).)! (Подлинные слова (прим. В. Н. Житовой).)
В самый день смерти своей утром в 11 часов Варвара Петровна пригласила к себе Анну Ивановну Киреевскую и деверя своего Петра Николаевича Тургенева, и в их присутствии высказала и подписала свои последние заботы обо мне.
В 8 часов вечера Порфирий Тимофеевич дал знать в тот дом, что час кончины Варвары Петровны близок. С утра еще дыхание все было громче и реже.

Могила В. П. Тургеневой на Донском кладбище в Москве. Рисунок А. А. Андреевой
Николай Сергеевич приехал, но уже с женой своей. Между 11-ю и 12-ю вечера он, его жена и я сидели зале. Вдруг поспешные шаги раздались в коридоре.
- Кончается! священника! - сказал кто-то.
Мы с Николаем Сергеевичем бросились в спальню.
Варвара Петровна взглянула на нас; но мгновенно потускнели ее глаза, и началась агония. Священник успел прочесть отходную, и Варвары Петровны не стало.
Это было без десяти минут двенадцать, 16-го ноября 1850 года.
Мир праху ее! Повторяю опять: то было время, были и нравы.
Когда Агашенька пожелала ознакомиться с моими воспоминаниями, я нарочно ездила к ней. Выслушав, все, а также и рассказ о ее собственных страдания добрая старушка вздохнула:
- Да! - сказала она сквозь слезы,- много видeла я от нее горя, а все-таки любила я покойницу! Барыня настоящая была!
|
ПОИСК:
|
© I-S-TURGENEV.RU, 2013-2020
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://i-s-turgenev.ru/ 'Иван Сергеевич Тургенев'
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://i-s-turgenev.ru/ 'Иван Сергеевич Тургенев'