
Сомнения, уступки, искания
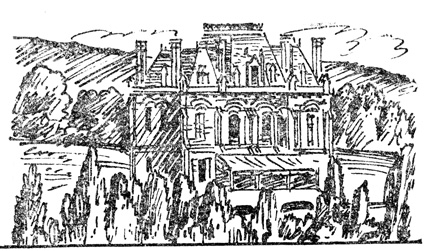
Рис. 19
Когда роман "Отцы и дети" вышел в свет, Тургенев уже не был связан с "Современником". Отношения с Некрасовым прекратились. Добролюбова не было в живых, Чернышевский в 1862 году был арестован. В том же году умер Панаев.
Из старых друзей прогрессивного лагеря оставался Герцен. В мае 1862 года Тургенев был у Герцена в Лондоне и встретился там с Бакуниным, бежавшим из сибирской ссылки. В Сибири оставалась жена Бакунина, и Тургенев взялся помочь выхлопотать для нее разрешение о выезде. Кроме того, он обязался помогать Бакунину, совершенно не имевшему средств, деньгами (1500 франков ежегодно).
Постоянный и глубокий интерес Тургенева к Герцену и его делу и их многолетняя дружба еще не означали полного единомыслия. После парижской трагедии 1848 года, пережив разгром французской революции и страшные дни массовых расстрелов французских рабочих, Герцен испытал глубокую духовную драму. "Духовная драма Герцена, - писал В. И. Ленин, - была порождением и отражением той всемирно-исторической эпохи, когда революционность буржуазной демократии уже умирала (в Европе), а революционность социалистического пролетариата еще не созрела"1 Герцен обратился к народническим идеям, стал основоположником, по словам Ленина, "русского" социализма, "народничества"2, он возлагал надежды на крестьянскую общину, в которой видел зародыш будущего социализма. Тургенев же понимал, что для крестьян община - это еще один вид тяжелой, а иногда и трагической рабской зависимости, что она не может вывести крестьянство из нищеты и темноты и вовсе не является ростком будущего. В этом вопросе Тургенев был прав, но сам он избрал путь либерала-постепеновца, а это в свою очередь, вызывало резкую критику со стороны Герцена. Между старыми друзьями намечались все более серьезные разногласия.
1 (Ленин В. И. Памяти Герцена. - Полн. собр. соч., т. 21, с. 256)
2 (Там же, с. 257)
В 1862 - 1863 годах в "Колоколе" появился ряд статей под общим заглавием "Концы и начала". Автором их был Герцен. Статьи имели форму писем к другу, который нигде не был назван по имени (в целях конспирации). Этим другом был Тургенев. "Что же, - писал ему Герцен, - с богом, расстанемся, как добрые попутчики, в любви и совете".
В феврале 1863 года царское правительство привлекло Тургенева к ответственности по делу "о лицах, обвиняемых в сношениях с лондонскими пропагандистами" (это дело получило название "процесса 32-х"). Писатель, бывший в то время за границей, получил официальный вызов на допрос в Сенат. Он не поехал по вызову и просил переслать ему "допросные пункты" в Париж. Одновременно он обратился с письмом к царю, которому писал об "умеренности" своих убеждений. Пункты допроса были высланы Тургеневу, но он все же получил повторный вызов, от которого снова уклонился. Все-таки в январе 1864 года пришлось ехать давать показания. Но сенатская комиссия уже не считала Тургенева "опасным". "Мои шестеро судей, - писал он Полине Виардо, - предпочли поболтать со мной о том, о сем..." Определением Сената писатель был освобожден от ответственности по этому делу.
Сначала Герцен предполагал, что Тургенев мог бы способствовать вскрытию позорной сущности "процесса 32-х". "Может, было бы лучше ехать, - писал он автору "Отцов и детей" в 1863 году, - преследование тебя нанесло бы страшный удар правительству дураков, трусов и, в силу этого, злодеев". Но, узнав о покаянном письме Тургенева к царю, Герцен понял, что на этот раз он ошибся в своем друге.
Так разрывались нити дружбы, связывавшей Тургенева с русскими демократами. Давно лежал в могиле "отец и командир", любимый друг и учитель - Белинский; с наследниками его дела - Добролюбовым, Чернышевским, Некрасовым - в 60-х годах Тургеневу оказалось не по пути; а теперь совершился разрыв с Герценом и кругом деятелей вольной русской типографии в Лондоне.
С этого времени Тургенев все больше времени проводит за границей, все реже приезжает в Россию. Во многом это объяснялось ухудшением состояния его здоровья и заботами о дочери.
Супруги Виардо, ненавидевшие Наполеона III и его режим, покинули Францию. Прощальное выступление Полины Виардо в парижской опере завершилось громом аплодисментов, но певица понимала, что для нее пришло время уйти со сцены. Семья Виардо переселилась в Германию, в Баден-Баден. Там была куплена вилла, в которой Полина Виардо основала одну из лучших в Европе школ пения. В Бадене поселился и Тургенев.
Дочь его оставалась в Париже и в феврале 1865 года вышла замуж. Отец принимал живейшее участие в ее замужестве: ездил в Париж для оформления брачного контракта и празднования свадьбы. Во Франции того времени брачный контракт был превращен чуть ли не в коммерческое предприятие, юридически очень сложное: "...выдать девушку замуж, - писал Тургенев, - это целая история - чуть не целое уголовное дело во Франции, а при ненормальном положении моей дочери - затруднения усложняются в десять раз". Однако все формальности были благополучно завершены, сыграли свадьбу, и отец был счастлив. Зять казался ему хорошим человеком, материально молодая семья была обеспечена: Полина получила от отца достаточное приданое, а муж ее, Гастон Брюэр, имел неподалеку от Парижа стекольную фабрику. Вскоре у Тургенева появились и внуки. Сам он никогда не знал семейного счастья и особенно горячо желал его для своей дочери. Но эти надежды не сбылись. Гастон Брюэр разорился и при этом, как говорил Тургенев, "просадил" или "убубухал" все приданое своей жены. Между супругами нарастал разлад, дошедший до того, что в конце концов Полина Брюэр с детьми, без всяких средств, бежала от мужа в Швейцарию, а отец, к тому времени уже старик, совершенно больной, сам стоявший на краю могилы, поддерживал ее, как мог, деньгами, помогал ей скрываться и, умирая, даже не имел возможности повидаться с нею.
После замужества дочери Тургенев продолжал жить в Бадене, который славился своими целебными водами, зеленью, особенной чистотой воздуха. "Такого зеленого царства я нигде не встречал", - писал о Бадене В. П. Боткин.
Условия для работы в Бадене были хороши, но Тургеневу долго не работалось. Трудно было определить свое место в напряженной идейной борьбе, продолжавшейся в России. Он отходил от революционной демократии, но не хотел оказаться в лагере реакции. Он стремился найти какую-то среднюю линию между идеями революции, с которыми не соглашался, и крепостнической психологией, которую ненавидел.
Все это явственно выразилось в новом романе Тургенева - "Дым". Вещь эта была написана в Баден-Бадене в период между 1865 и 1867 годами. Местом действия романа является Баден, но в центре произведения стоят русские люди и проблемы русской жизни в послереформенные годы.
В этом романе уже нет сильного и смелого передового героя своей эпохи, нет в нем и изображения революционной демократии. Сам Тургенев в письме к Писареву объяснял это тем, что в период арестов и репрессий о Базаровых трудно было говорить. В романе есть намек на то, что выдающихся деятелей освободительного движения теперь насильственно изолировали от общественной жизни - "под сюркуп взяли", как выразился один из жалких людишек, изображенных в "Дыме". На этот раз Тургенев создал роман-памфлет.
Герой "Дыма", Григорий Михайлович Литвинов, наблюдает те общественные группировки, которые либо остались не тронутыми разгулом реакции, либо сами приветствовали эту реакцию. Их жизнь, внешне очень шумную, их интересы и трескучие речи Литвинов определяет словом "дым". Они идут мимо настоящей жизни и легко меняют направление в зависимости от того, куда подует ветер.
В Баден-Бадене собралась русская аристократия, "знать и моды образцы". В центре этого общества - генеральский кружок. Генералы все молодые, нарядные, с "миловидно-величавыми" улыбками. Голоса их звучат так, как будто они "любезно и гадливо" благодарят подчиненную толпу. На всех лежит "печать отменного приличия". Эти люди не знают ни живых человеческих чувств, ни искренних, глубоких стремлений. Они мечтают о таком "прогрессе", который бы не пошел дальше газовых фонарей и мостовых на улицах. Один из них, генерал Ратмиров, "гладкий, румяный, гибкий и ловкий", умело нанизывает одно на другое пустые, ничего не значащие слова: "Прогресс - это есть проявление жизни общественной, вот что не надо забывать; это симптом. Тут надо следить". Ратмиров владеет особенным искусством "фамильярно-почтительного обращения с высшими, грустно-ласкового, почти сиротливого прислуживания, не без примеси общего, легкого, как пух, либерализма..., Этот либерализм не помешал ему, однако, перепороть пятьдесят человек крестьян в взбунтовавшемся белорусском селении, куда его послали для усмирения".
Остросатирическое изображение кругов, составлявших оплот русского самодержавия, метко било в цель. "Удались мне генералы в "Дыме", метко попал, - говорил Тургенев. - Знаете ли: когда вышел "Дым", они, настоящие генералы, так обидились, что в один прекрасный вечер, в Английском клубе совсем было собрались писать мне коллективное письмо, по которому исключали меня из своего общества... Подумайте, какое бы торжество было для меня получить такое письмо? Я бы его на стенке в золотой рамке повесил!"
В романе изображена и другая группа русских, съехавшихся на курортный сезон в Баден-Баден. Еще не успев познакомиться с ними, читатель уже чувствует, что эти люди шумят где-то на задворках общественного движения, пытаясь придать себе какой-то особый политический вес без всяких на то оснований., Еще в 20-х годах XIX века такое "дутое" политиканство изобразил Грибоедов в монологе Репетилова ("Горе от ума"). Тургенев в "Дыме" как будто нарочито подчеркивает преемственную связь группы своих персонажей с Репетиловым и его кругом. Как Репетилов зовет Чацкого к "князь Григорию" и восторженно описывает "тайные" собрания в Английском клубе, так Бамбаев в "Дыме" зовет Литвинова к Губареву, которого объявляет великим человеком.
Репетилов:
- Но если гения прикажете
назвать:
Удушьев Ипполит
Маркелыч!!!
Ты сочинения его
Читал ли что-нибудь? хоть
мелочь?
Прочти, братец, да он не пишет
ничего;
Вот эдаких людей бы
сечь-то,
И приговаривать: писать,
писать, писать;
В журналах можешь ты
однако отыскать
Его отрывок, взгляд
и нечто.
Об чем бишь нечто? - обо всем;
Все знает, мы его на черный
день пасем.
Бамбаев:
- Но Губарев, Губарев, братцы мои!! Вот к кому бежать, бежать надо! Я решительно благоговею перед этим человеком! Да не я один, все сподряд благоговеют. Какое он теперь сочинение пишет, о.., о... о!..
- О чем это сочинение? - спросил Литвинов.
- Обо всем, братец ты мой, вроде, знаешь Бёкля... только поглубже, поглубже... Все там будет разрешено и приведено в ясность.
На самом деле Губарев, как и Удушьев, не писал ничего; он лишь невнятно мычал о том, что "собирает материалы". Перекличка с репетиловской темой на страницах "Дыма", посвященных кружку Губарева, не ограничивается приведенным сопоставлением. Даже обращенный к Репетилову вопрос Чацкого: "Да из чего беснуетесь вы столько?" - как бы откликается в "Дыме" словами Литвинова после посещения им Губарева: "Мне все хотелось спросить у этих господ, из чего они так хлопочут?"
Есть у кружка Губарева и более близкие предшественники в литературе. Это созданные самим Тургеневым в романе "Отцы и дети" образы Кукшиной и Ситникова. Люди, которые в свое время вертелись вокруг Базаровых, изображая рьяный демократизм и не имея за душой ни одной живой идеи, после реформы продолжали рьяно шуметь как будто они и в самом деле демократы. Сам Губарев при первой же встрече с человеком спрашивает, каковы его политические убеждения, а иногда глубокомысленно мычит: "Ммм... ммм... Сверху донизу все гнило". Неслыханный сумбур, состряпанный из обрывков больших и значительных идей, совершенно не понятых, уродливо подхваченных с той или иной чисто внешней стороны, царит в этом кругу.
Губаревского "демократизма" хватило ненадолго. Прошло два-три года, и этот человек уже кричит: "Мужичье поганое!.. Бить их надо, вот что; по мордам бить; вот им какую свободу - в зубы..." "Погода, вишь, переменилась", - так объясняет дело Бамбаев, имея в виду усиление правительственных репрессий.
Что же сам Тургенев противопоставляет всем этим уродствам, выплывшим на поверхность общественной жизни России в эпоху реакции?
Два героя романа "Дым" вызывают откровенную симпатию автора. Один из них - Литвинов, простой и умный человек, честный, прямой, немного наивный, несколько напоминающий знакомого нам по "Дворянскому гнезду" Лаврецкого. Литвинов начертал для себя скромный путь - по возможности наладить свое хозяйство в деревне. Специально для этого он несколько лет учился и будет счастлив, если окажется хоть немного полезным в тот трудный для России период, когда после половинчатой крестьянской реформы сельское хозяйство в стране переживало кризис.
Другой близкий автору герой "Дыма" - Потугин, человек "с очень умными и очень печальными глазками под густыми бровями... и тем чисто русским носом, которому присвоено название картофеля; человек с виду неловкий и даже диковатый, но уже, наверное, недюжинный". "...Речь его, горькая и даже злая, не отзывалась желчью, а скорее печалью..." Потугин небогат, не знает личного счастья. Он совсем не деятель, но он много думает, много рассуждает. Главным для России Потугин считает дело цивилизации и полагает, что только постепенно, с помощью просвещения, можно создать почву для коренных преобразований, которые, по его мнению, являются делом отдаленного будущего. "Голубчики! - говорит он, - и ваши детки еще действовать не будут; а вам не угодно ли в норку, в норку опять по следам старичков?" В сущности, в такую "норку" и зарылся собеседник Потугина Литвинов, поселившись у себя в деревне с тем, чтобы постепенно, потихоньку совершать небольшие полезные дела. А сам Потугин даже этого не сделал. Жизнь его сложилась неудачно, и он так ничего и не смог дать родине.
Так писатель, создавший образы Инсарова и Базарова, теперь отказался не только от воплощения в своем романе фигуры героя-деятеля, героя-борца, но и от самой мысли о смелой освободительной борьбе и предложил читателю довольно вялое выражение либерально-постепеновской идеологии. Насколько интересна и остра критическая сторона романа "Дым", настолько бледна и политически ограничена его утверждающая часть.
Это хорошо понял Д. И. Писарев. Тургенев обратился к нему с письмом, в котором спрашивал, не рассердили ли Писарева сцены у Губарева. Но демократ Писарев верно разобрался в истинном смысле изображения губаревского кружка и отвечал Тургеневу: "Сцены у Губарева меня нисколько не огорчают и не раздражают... Я сам глубоко ненавижу тех дураков, которые прикидываются моими друзьями, единомышленниками и союзниками". Отметил Писарев и то обстоятельство, что весь роман направлен главным образом против реакционной аристократической "верхушки" русского общества, что "удар, действительно, падает направо, а не налево".
И вместе с тем "Дым" решительно не удовлетворил Писарева: "Иван Сергеевич, куда вы девали Базарова? - спрашивал он. - Вы смотрите на явления русской жизни глазами Литвинова... а ведь Литвинов - это тот самый друг Аркадий Николаевич, которого Базаров безуспешно просил не говорить красиво. Чтобы осмотреться и ориентироваться, Вы становитесь на эту низкую и рыхлую муравьиную кочку, между тем как в Вашем распоряжении находится настоящая каланча, которую вы же сами открыли и описали. Что же сделалось с этой каланчой? Куда она девалась? Почему ее нет, по крайней мере, в числе тех предметов, которые вы описываете с высоты муравьиной кочки? Неужели же вы думаете, что первый и последний Базаров действительно умер в 1859 году от пореза пальца?"
"Отцы сделались дедами" - так назвал Герцен одну из своих заметок о романе "Дым", помещенных в "Колоколе". Уже самим этим названием он указывал на тот факт, что Тургенев все дальше уходил от. революционной демократии.
Тургенев знал отзывы "Колокола" о романа "Дым", и тем не менее он послал Герцену свою книгу. Герцен дружелюбно откликнулся на этот шаг Тургенева. Он писал, что в его отзывах о романе "Дым" не было злобы, и готов был продолжать спор по существу вопроса, но многословие Потугина его никак не убеждало. "Я искренно признаюсь, что твой Потугин мне надоел", - писал он Тургеневу.
Однако примирение состоялось. "...Тебе минуло 55 лет, мне в будущем году стукнет 50... - писал Тургенев Герцену, - да и что там ни говори, мы благодаря нашему прошедшему, времени нашего появления в свет и т. д. все-таки ближе стоим друг к другу, легче понимаем друг друга, чем разногодники". Да, определенная общность пройденного пути существовала, она была священна для обоих, и забыть о ней было трудно.
Переписка возобновилась, а спустя два с половиной года Тургенев и Герцен свиделись в Париже. Встреча была радостной, настроение - приподнятым. Это было в середине января 1870 года. Но на следующий день Тургенев уже застал Герцена в постели, в сильнейшем жару, с воспалением легких. Врач никого не пропускал к больному, а через пять дней Тургенев вынужден был уехать с тяжелым предчувствием, которое его не обмануло: 21 января 1870 года Герцен умер. 22 января Тургенев писал из Бадена: "Пишу вам под впечатлением горестного известия, любезный Анненков: я с час тому назад узнал, что Герцен умер. Я не мог удержаться от слез. Какие бы ни были разноречия в наших мнениях, какие бы ни происходили между нами столкновения, все-таки старый товарищ, старый друг исчез: редеют, редеют наши ряды!"
После выхода в свет романа "Дым" Тургенев все чаще обращается мыслью к прошедшему, к старым соратникам и, прежде всего, к Белинскому, вспоминает о том времени, когда он сам еще не числился ни в "отцах", ни в "дедах", когда Белинский любовно называл его "мальчиком" и грозился "в угол поставить" и когда "Записками охотника" началась его громкая слава замечательного художника и одного из самых передовых людей России. В 1869 году Тургенев опубликовал "Воспоминания о Белинском". Они были приняты читателями куда теплее, чем некоторые его повести и рассказы, появлявшиеся в ту же пору в журналах ("История лейтенанта Ергунова", "Странная история" и др.).
Тургенев и сам чувствовал, что в своих произведениях он уже не так близок к живой русской современности, как это было прежде, что длительное пребывание за границей мешает его творчеству, а кратковременные наезды в Спасское недостаточны для русского писателя, тем более, что в Спасском он большей частью болел и иной раз очень мучительно.
Показательно, что в 70-х годах Тургенев вновь возвращается к серии "Записок охотника", вспоминает старые неосуществленные замыслы, дорабатывает давние наброски и публикует два рассказа: "Конец Чертопханова" и "Живые мощи" (последняя вещь вызвала горячий, восторженный отзыв Жорж Санд). Тургенев неоднократно выступал с чтением рассказов из "Записок охотника". В Петербургском клубе художников он читал "Бурмистра" (на литературном утреннике, организованном в пользу гарибальдийцев), на чтениях в пользу Литературного фонда выступал с рассказами "Бурмистр", "Бирюк", "Малиновая вода". Он мог воочию убедиться, что эти рассказы блестяще выдержали испытание временем и интерес к ним не ослабел. В какой-то степени возврат к "Запискам охотника" тоже был обращением к прошлому, но именно к тому прошлому, в котором особенно проявлялась живая связь писателя с народом России.
С прежним жадным интересом следил он за русской литературой. По-прежнему горячо радовался появлению новых дарований и новых талантливых произведений. В частности, Тургенев верно и глубоко оценил беспощадный реализм молодого демократического писателя Ф. М. Решетникова, восторженно принял острую сатиру "Истории одного города" М. Е. Салтыкова-Щедрина. Это произведение он сравнивал с лучшими страницами Дж. Свифта - автора ряда всемирно известных политических памфлетов. В середине 70-х годов Тургенев, прочитав очерк Салтыкова-Щедрина "Семейный суд", писал автору: "...невольно рождается мысль - отчего Салтыков вместо очерков не напишет крупного романа с группировкой характеров и событий, с руководящей мыслью и широким исполнением?" Вероятно, не без влияния Тургенева Салтыков-Щедрин так и сделал, создав на основе ряда очерков свой роман "Господа Головлевы". Романы Л. Н. Толстого "Война и мир" и "Анна Каренина" заставили Тургенева много думать, во многом не соглашаться с автором и вместе с тем восхищаться и гордиться тем, что именно Россия породила такого гения, как Лев Толстой.
Живя за границей, Тургенев взял на себя роль горячего пропагандиста русской литературы в Европе. Во французских и английских журналах появлялись его статьи и заметки о "Войне и мире", об "Истории одного города" и другие. К нему обращались за советом, какие новинки русской литературы избрать для перевода, с творчеством каких русских писателей следует ознакомить Европу. Тургенев всегда живо откликался на такие вопросы. "Очень рад, что Вы хотите познакомить Ваших соотечественников с нашей литературой, - писал он английскому литератору В. Ральстону. - Не говоря уже о Гоголе, я думаю, что произведения графа Льва Толстого, Островского, Писемского и Гончарова могут представить интерес и по своей новой манере восприятий и по передаче поэтических впечатлений; нельзя отрицать, что со времени Гоголя наша литература приняла оригинальный характер..." "...Познакомить Европу с Вами - мне вот как хочется!" - писал Тургенев А. Н. Островскому. Он не только порекомендовал французскому писателю Э. Дюрану перевести "Грозу", но и сам работал вместе с переводчиком. "...Мы вдвоем ее прошли тщательно - я все ошибки выправил", - сообщал "Тургенев автору "Грозы".
Пропагандируя за границей русскую литературу, Тургенев подчеркивал, с одной стороны, ее мировое значение, а с другой - ее самобытность, тесную связь с русской жизнью и русским народом. "Лев Толстой - наиболее популярный из современных русских писателей, а "Война и мир", смело можно сказать, - одна из самых замечательных книг нашего времени", - писал Тургенев редактору газеты "Le Х1Х-е siecle" ("XIX век") и ниже замечал: "Граф Толстой - русский писатель до мозга костей". Это составляло предмет гордости Тургенева.
В 1870 году началась франко-прусская война. В Бадене были слышны раскаты орудийных залпов, но скоро стало ясно, что театр военных действий перемещается в сторону Франции, которая терпела поражение за поражением. Режим Наполеона III пал. Образовалась Парижская Коммуна - первое в мире правительство революционного пролетариата. В этих условиях Германия откровенно выступила в роли агрессора и, теперь уже в союзе с французской буржуазией, содействовала разгрому Парижской Коммуны.
Это привело Тургенева к решению не оставаться больше в Германии. Так же думали и его друзья - семья Виардо. Война еще не закончилась, как все они выехали из Баден-Бадена сначала в Лондон, где дождались ее окончания, а затем, в конце 1871 года, в Париж. "Париж и его писатели приняли с большой радостью и почестями знаменитого гостя, возвращенного французскому обществу", - писал немецкий литератор и художник, друг Тургенева Людвиг Пич.
|
ПОИСК:
|
© I-S-TURGENEV.RU, 2013-2020
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://i-s-turgenev.ru/ 'Иван Сергеевич Тургенев'
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://i-s-turgenev.ru/ 'Иван Сергеевич Тургенев'